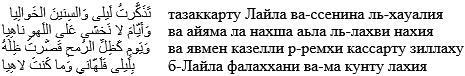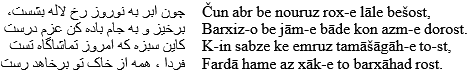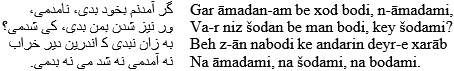Потом нас приучают скандировать стихи — якобы, чтобы подчеркнуть отличие стихотворной речи от прозаической... Детские песенки делают то же самое под нечто вроде музыки — что губит на корню как поэтичность, так и музыкальность. Поскольку же воспитание до сих пор в семейном рабстве — лишь редкие дети из "аристократических" (блатных) семей могут достаточно тесно общаться с искусством, чтобы с малых лет тянуться к настоящей музыке и поэзии. Понятно, что у такой молоди, особенно учитывая зажиточность родителей и умение хорошо отпрысков пристроить, — заведомое преимущество перед плебеями-самоучками; последние врываются в чужой мир лишь удесятеренным талантом — обычно там, где породистые слишком далеки от живого дела, и им просто нечего сказать. Это нормально: общество, основанное на всеобщем разделении труда по-разному воспитывает тех, кому предстоит пожизненно тянуть лямку рабочего, крестьянина — или поэта. Когда интерес к поэзии просыпается в относительно зрелом возрасте, голова уже забита образовательным мусором, и все опять начинается с формы: разбиение на строки и строфы, особый ритм, странные словосочетания... На поверхности — разительное отличие от обыденной речи — и кажется, что звучат стихи по-особому, не так, как все вокруг говорят. Лишь после многих лет близкого знакомства некоторые начинают осознавать, что поэтические ухищрения — способ показать, как мы на самом деле говорим: живо, эмоционально, не заботясь об академических стандартах правильности. Оказывается, поэзия — то, что мы всю жизнь знали и делали, но не решались себе в этом признаться. Точно так же современное музыкознание вдруг открывает, что странные способы народного музицирования далеко не всегда от безграмотности или технического несовершенства, — что в них проявляются всеобщие законы, до которых теория музыки лишь недавно доросла. Как правило, все почитатели поэзии когда-то пробовали свои силы в ремесле. Поэтами из них становятся единицы. Это тоже нормально. Хлебать щи вприглядку — сыт не будешь. Наши любительские экзерсисы, независимо от уровня дилетантизма, настраивают дух на восприятие искусства, сдирают с него корку тысячелетних суеверий и позволяют в полной мере насладиться совершенством чужого творчества — как бы ни судили о нем критики-профессионалы. Если огонь внутри — первые же опыты это высветят; надо не торопиться, не искать популярности, снова и снова возвращаться на давно пройденные пути, — и корявости формы уйдут сами собой. Не все любители становятся поэтами. Но нельзя стать поэтом без любви. В поэзию приводит чувство духовного родства, сознание невозможности не творить. Чтобы стать собой — предстоит кому-то удивиться, испытать неописуемый восторг, загореться, упасть в пламя. Только так, через подражание и протест, — но никогда через приобщение к формальной грамотности или от теоретических изысканий. Поэт делает стихи — а не гекзаметры, хокку или сонеты. Он может начинать с какой-то из типовых форм — но если она его не устраивает, он с легкостью от нее откажется. Он может подшлифовать почти законченную вещь, чтобы придать сходство с чем-то широко известным — добавить образу еще одно внутреннее измерение. Как в шахматах: есть типовые дебюты, есть правила эндшпиля, но творчество — в миттельшпиле, в тактических находках и острых комбинациях. По большому счету, начинающему поэту твердые формы противопоказаны. Обширная эрудиция отвлекает от главного — освоения богатства интонаций, выработки умения заметить и показать, грамотной композиции. Изо всех сил запихивать идею в бетонные ритмы и рифмы — верх глупости. Полезнее забыть об искусстве и говорить как-то иначе — но по существу. Знание, конечно, сила. Но не такая, когда ума не надо. Приглашают в зоопарк? — извольте, прогуляемся. Составим общее впечатление. И сделаем главный вывод: в живой природе много разных возможностей. Поэтому борьба за биоразнообразие не должна сводиться к биозастою, консервации уже имеющихся видов, — вопреки естественному поиску новых, столь же прекрасных (или ужасных) форм. Поэзия не кунсткамера, ей надо не только возрождаться в каждом поэте — но и перерождаться, в нем же. Опыт предшественником мы изучаем не ради уподобления — причащения к славе. Это путь к себе — столь же великому и ни на кого не похожему. Профессиональная плодовитость тут ни при чем. Достаточно единственный раз прочувствовать до дна — стать поэтом одного стихотворения, одного куплета, одной строки... Такая эфемерность — стоит всего наследия Пушкина, Рембрандта или Моцарта. Даже если не узнает никто и никогда. Читайте стихи. Кто перестал — не может творить. Побывать в шкуре читателя надо всенепременно — и возвращаться к этому состоянию снова и снова, чтобы зачистить ржавчину в мозгах. А читателю глубоко без разницы, как ученые стервятники назовут способ оформления и мертвую анатомию текста. Для нас существует не текст — а его способность оживать при каждом прочтении, становиться нами — как мы становимся им. Если это проснется частью души — мы можем состроить нечто внешне похожее — но не по правилам в учебнике, а по зову сердца. Подражание может быть намеренным только в качестве аллюзии, чтобы в сопоставлении высветилось творческое своеобразие. Мы не просто осваиваем чей-то опыт — мы вырастаем из него! Чтобы каждой строкой беседовать со всеми другими поэтами — современными, прошлыми или будущими. Только так рождается настоящий поэт. В каждой конкретной культуре — мода и память. Сегодня поэты осваивают одни культурные ниши — завтра они увлекутся другим. Память — история наших увлечений. Твердые формы в поэзии (поскольку они осознаются как таковые) — чаще не образец, а предостережение: так делать не надо, это архаизм... Однако без поэтического перегноя нет плодородной почвы. И мы неизбежно будем возвращаться в пройденному — преодолевать его в себе. Но и этому надо учиться — и пусть ранние поэтические опыты будут откровенно подражательны. Не все достойно сохранения. Было время — и я жег черновики. Оставил только иллюстрации непримиримости, следы борьбы. Венок полусонетов, переосмысленная геометрия рубаи, псевдотанка... Самостоятельной художественной ценности в этом нет. Зато родилось уверенное чувство формы, позволяющее не бояться кажущейся подражательности и непринужденно творить в царстве твердых форм, оживлять их лучиком света или прихотливой тенью. По счастью, мои творения не настолько известны, чтобы руинами окаменеть. Помните у Случевского? —
Однако искусство для того и существует, чтобы показать ставшее в неожиданном освещении — и тем самым оживить его, не впасть в холодное безразличие. Это тоже создано человеческим трудом. Но:
Вот и давайте мыслить по поводу поэтических формальностей. Начнем с того, что затвердеть, стать формальным приемом, способно все, что угодно: это не ограничено ни объемом, ни выбором языковых средств или тематических аспектов (жанров). Обычно имеют в виду что-нибудь глобальное: формат целого (сонет, баллада) — или устройство строфы (катрен, октава, бейт); иногда речь идет о характере связи строф (терцины, газель). Но точно такую же роль играет в поэзии строгий размер (устройство строки), рифма, стилистика (например, различие оды и басни), сквозной образ (романтизм) или единство настроения (элегия), композиционный принцип (целостность, куплетность, вариации). Всех возможностей не перечислить. Каждый способ организации предполагает соответствующие смысловые связи — но уловить их может лишь тот, кто знаком с какой-либо культурой твердых форм (не обязательно окружавших автора). Поэтому сочинитель, если он рассчитывает на культурно опосредованное восприятие, обязан позаботиться о заметности шаблона, подчеркнуть его, — и только тогда предаваться диссидентским увеселениям. Особый прием — перестараться со следованием избранному образцу; такая нарочитость свойственна литературной пародии. Другая крайность — слишком расплывчатая трактовка, выход за рамки присущего каждой форме организационного принципа. Вплоть до исчезновения поэзии как таковой, перерождения в литературную прозу — или, скажем, разновидность риторики. Теоретическое изучение твердых форм важно как раз для того, чтобы уловить суть различий и почувствовать пределы допустимого. Еще раз подчеркиваю: теоретическое. На уровне сборника анекдотов — недостаточно. История не свалилась с потолка — она лишь развертывает перед нами внутреннюю логику. На то мы и разумные существа, чтобы за случайностями эту логику усмотреть — при необходимости подправить, — и дальнейшую историю писать не в том же русле, и не поперек, — а следуя исторической необходимости. Вот эту творческую технологию, по идее, и должны выработать теоретики искусства... Есть оно в книжных зарослях? Ровно два раза! Казалось бы, про сонеты знают абсолютно все. Даже те, кто ни разу не прочел ни одного. Но где теория сонета? Есть четырнадцать строк. В учебниках и словарях приводят некую схему рифмовки — иногда с патетическими восклицаниями о предельном совершенстве именно такой организации. Но тут же выясняется, что рифма и размер в реальности весьма подвижны, что строение итальянского и французского сонета — две большие разницы, а русский сонет вообще на другой технике... Откуда ни возьмись, еще и Шекспир, с его "романтическим" сонетом, который с Италией и рядом не стоял. Получается, что матчасть — полностью на усмотрение автора: что он считает важным, то и назовет! И. Л. Сельвинский захотел так:
По расположению рифм — как в учебнике. А размер допускается творчески переиначить. В мировой литературе всякие бывают... Получился сонет? Никоим образом! Потому что для сонета важна не только организация текста, но прежде всего — общий настрой, тематическая ясность и характер звучания. Твердость формы — не от языка; она от привычности жизненных ситуаций, в которых нам могла бы помочь поэзия. Что уместно в одном случае — вульгарно в другом. Само название сонета указывает на жанр: это маленькая песенка (в отличие от канцоны — "песнь"), лирическое послание. Поначалу — от поэта любимой женщине. Потом женщины-поэты стали петь для мужчин, а также для других женщин; дошло и до посланий от мужчин к мужчинам. Поскольку же Возрождение следовало античной традиции, и земные дела становились аллегорией духовных исканий, у сонета появился второй план: послание поэта всему человечеству, лирическое размышление (школа Ронсара лишь выдвинула эту сторону на первый план, по-иному расставила акценты). Но сонет ни в коем случае не рассказ, не эпос (как у Сельвинского); никакого пафоса — без призывов и морализаций. Наконец, для сонета обязательна музыкальность. Какая угодно, с любыми ритмическими играми, жутко синкопированная или, наоборот, нудно-медитативная. Но в нас это превращается в музыку. А все остальное — дань прошлому. Пример раннего сонета, Giudo Guinicelli (XIII век):
Происхождение из народной песни-игры бросается в глаза: типичная перекличка двух сторон (и надо суметь подхватить тему, спеть так же). Двухчастное строение народных песен — на каждом шагу; причем вторая часть, как правило, компактнее первой — своего рода резюме (иногда выстраивают цепочки таких чередований — ср. японские рэнга; точно так же, возможна сериализация сонета: например, у меня, в микропоэме Эхо). Следующий век окончательно уходит от игровой традиции (примерно тогда же итальянская ballata утрачивает танцевальные черты), и первое восьмистишие приобретает "классическую" опоясывающую рифму (которая, впрочем, тоже восходит к излюбленной народной форме — инверсия, эхо, хиазм). Во второй части сонета постепенно стирается граница между трехстишиями (но не исчезает до конца: следы заметны и в наши дни). Объем сонета закономерно вытекает из логики твердых форм: сначала утвердить некий организационный принцип — потом его нарушить. В итальянской народной поэзии уже были восьмистрочные сицилианы — так почему не взять их за основу? Далее — конвейер заимствований; но ритмика и звучание английского языка делают итальянскую строфику не столь убедительной — и Шекспир находит гениальное решение: полностью сохраняя интонационно-тематическую традицию, почеркнуть контраст противопоставлением размеренности трех катренов и финального двустишия-резюме (как за пару веков до него сицилиану превратили в октаву). В принципе, эффект сонетности возможен и при другом объеме — и такие формы действительно существовали. Однако размер имеет значение: интонация укороченных и расширенных аналогов сонета уже не отвечала идее лирического послания — это было другое, и для этого сложились свои твердые формы. Сухой остаток: экспериментировать с сонетом можно и нужно — однако уход от главного, от настроения и темы, либо совсем уводит от сонета — либо превращает стихи в пародию. То же самое — примерно такими же словами — можно сказать и о другом широко известном жанре — рубаи. По происхождению — это короткая песенка, куплет, — вроде русской частушки. Та же древняя техника: вызов — ответ, тезис и антитезис. Очевидная игра на контрасте твердой формы (бейта) и нерифмованной каденции; поэтому рубаи со сквозной рифмой считались в персидской поэзии второсортными. Рубаи запросто объединяются в цепочки; можно здесь вспомнить о турецкой классике — песне Юсуфа Хайялоглу, составленной из двух пар рубаи, связанных тонкими фонетическими ассоциациями. Однако вне контекста, в силу равнообъемности частей, не хватает чисто формальной завершенности — и полурифмованная каденция может повторяться снова и снова, как бы раскрывая разные грани заданной исходным бейтом темы. Рубаи превращается в газель — среднеазиатскую форму лирического послания, с тем же вторым планом, что и у сонета. В музыке устойчивость рубаи достигается (двукратным, а то и трехкратным) повторением первого бейта; певец-импровизатор как бы дает себе время придумать концовку. Газель характерна для письменной поэзии: есть повод блеснуть ремеслом, нанизывая один образ на другой, — и здесь важно уметь вовремя остановиться, чтобы милый адресат таки не забыл, от кого привет (имя автора, как правило, указано в последнем двустишии). Рубаи как форма письменной речи приобретает законченность, когда концовка предельно афористична — в противовес тематической размытости исходного бейта, который из самостоятельной твердой формы разжалован всего лишь в экспозицию, введение в тему. Точно так же, как укороченный сонет теряет изрядную долю лиричности, рубаи не может в этом плане соперничать с газелью; интимное начало уходит в тень, созерцание и переживание, спрессованные в несколько строк, превращаются в свою противоположность — притчу и максиму. Не любуемся изгибами темы — а берем за рога. Таким образом, рубаи как твердая форма характеризуется не какими-то метроритмическими соображениями, а лирической публицистичностью (эфирное масло, экстракт Ронсара!) — при сохранении музыкальной, песенной основы. Это все та же частушка — поставленная на службу философской рефлексии, борьбе идей. Здесь уместен сарказм, элемент шутовства (газели совершенно противопоказанные) — но не площадная брань; можно подвести итог размышлениям — но только в качестве глубоко личного отношения, состояния души. В том числе — выражение умонастроения масс, народного духа (в отличие от автороцентричности газели). И хрупкость, как обратная сторона твердости: минимального стилистического сдвига достаточно, чтобы превратить рубаи в шарж:
Националистически настроенное литературоведение выводит достоинства формы из языка; восточные знатоки и ценители лицемерно скорбят о несчастных, лишенных возможности читать Хайяма в оригинале. Европейские академисты принимают блеф за чистую монету — у самих рыльце в пушку. Но культурные условия, породившие жанр рубаи, характерны для очень разных народов; именно в этом причина массового интереса к творчеству восточных поэтов — и моды на собственные стилизации. Форма возникает из ритма жизни, из общности внутреннего движения. Если образ мне слышится как сонет, или рубаи, — я вправе воспользоваться уже известным, или изобрести нечто подобное. Как это называется — не моя забота. Я никого не копирую! —рождаю форму из себя, в контексте своей культуры. Мне важно не количество строк, или чередование стоп и рифм; мне надо получить на выходе определенную интонацию — и никакие справочники не указ. Нам внушают, что классическая персидская (или античная) поэзия устроена по принципу чередования долгих и кратких слогов — вздор! Поэт не занимается арифметикой. Ему хватает мастерства, чтобы при случае подогнать размер под навязанный сверху стандарт, — но технологии публикации вне поэзии. Слогом больше, слогом меньше — какая разница! Всякий проект — шире чертежей и маршрутных карт; любая деталь предполагает какие-то допуски и посадки. Петрарка и Хайям — не ремесленники от поэзии; для них твердая форма — синоним творческой свободы. Прежде чем продолжить о рубаи, обратимся к его основе — бейту. Как математики сводят частные утверждения к очень общим теоремам. Двустишие — универсальный формат: ни одна литература его не обошла. Народная основа все та же: игра, перекличка голосов, подражание и соперничество, proposta — risposta. До сих пор самодеятельные виршеплеты чаще всего ограничиваются рифмовкой соседних строк, выдержанных в едином ритме. Обычная салонная хохма. Однако выразительные возможности двустишия гораздо шире простого уподобления. Размеры строк могут различаться, а их связь не сводится к рифме. Например:
Это чисто русские стихи; по этому образцу можно строить другие двустишия, или цепочки двустиший (возможно, с чередованием структур). Двустишие может быть стилистически замкнутым — или открытым, требующим продолжения. Бывают и нейтральные варианты, когда равно допустимы и жирная точка, и многоточие (как эпизод сериала). Ни из каких формальных показателей это не следует — только по контексту, по способу употребления. Двустишия по-разному звучат на разных языках — но внутренне воспринимаются совершенно так же. И тут является какой-нибудь -итдинов или -заде — и вещает, что персидскому бейту свойственно нечто неповторимое, чего русскому никак не понять. А потому и более сложные формы в переводах утрачивают идейно-этническую чистоту. Хорошо — допустим, мы такие тупые. Но господа-теоретики забывают, что и сами они — отнюдь не средневековые персы, и язык Хайяма им известен только теоретически — как и всем остальным. Тем более смешно выслушивать наставления тюркоязычных писак: тюркские языки сильно отличаются по своему строю и от фарси, и от арабского, — поэтому турецкие рубаи отличаются от персидских не меньше, чем французский сонет (или оперный стиль) от итальянского. В любом языке есть интонационные различия — но для поэзии важны не долгота или краткость, не ударность и безударность, — и даже не качество гласных, — а внутренняя напряженность или легкость, задержка или убыстрение, подъем или спуск. Язык этим не заведует. Это прерогатива внутренней речи, — не факт языка, а общественное отношение по поводу. Заметим, что и носители языка воспринимают формально-грамматические наблюдения без особого пиетета: они на собственной шкуре знают, что одно и то же слово по-разному звучит в разных контекстах, и что грамматически долгая гласная в речи бывает заметно короче краткой, — и что редукция или утрирование идут от смысла, от намерения, от речевой ситуации и культуры. Например, французские носовые гласные объективно дольше лишенных назализации, а открытые гласные заднего ряда дольше закрытых передних. Но в твердых формах количество слога традиционно не учитывают: важна лишь его позиция в строке, отношение к целому. Было бы странно, если бы поэты не улавливали интонационных различий, которые слышны даже иностранцу. Вывод? Реальная интонация французского стиха не следует правилам, она сложнее и интереснее, — точно так же, как русский стих сильно отличается от примитивного скандирования. Хорошо известно, что различие так называемых долгих и кратких гласных в арабском и персидском языках — больше качественное, нежели от физического времени. В этом плане нет существенных отличий ни от французской поэзии, где качество равномерно распределено по строке или синтагме, — ни от русского стиха, где словесное ударение никак не влияет на течение поэтического времени. Точно так же, греческого или латинского поэта не интересовали метрические соотношения — он всего лишь следовал интонациям обыденной речи; изобилие теоретически выделяемых стоп — абстрактная комбинаторика, не имеющая отношения к поэзии. В тюркских языках — никакого противопоставления одних гласных другим; однако жанровое разнообразие персидского стиха ничуть не пострадало, а лишь обогатилось новыми красками. Алишер Навои забавно рассуждает на этот счет: любой тюркский поэт свободно пишет на языке сартов — но ни один сарт не понимает тюрков, и тем более не может писать стихи, используя обороты, невыразимые на фарси; поэтому тюрки культурнее персов, и тюркская поэзия богаче. В наши дни нечто подобное можно было бы сказать про американцев и русских — если бы в русской поэзии конца XX века не наметился некоторый застой (будем надеяться, что не навсегда). Посмотрим пристально на парочку примеров из персидской классики. Саади говорит:
Может кто-либо усмотреть в этом регулярное чередование метрически выверенных стоп? Надо обладать уж очень буйной фантазией... — а в поэзии у нас все по-настоящему! Ну да, в качестве рифмы фонетические параллели уместны (хотя в данном случае больше звукописи, чем метрики). Но три "долгих" гласных подряд во второй строке ([a-i-u]) абсолютно ничему не соответствуют в первой. С точки зрения реальной поэтики, мы видим три точки фиксации в первой строке ("грамматическое" окончание не в счет) — и две во второй; однако из этих двух первая существенно нелокальна, растянута на полстроки, что интонационно подчеркивает невыносимость страдания. Звучание идеально соответствует смыслу — это настоящая поэзия. От твердой формы здесь остается стилистическая определенность, рифма, да общий объем. Сразу вспоминаем Маяковского из предыдущей лекции. Ассоциация не случайна. Тысячи лет тысячами уз персидская культура связана с семитскими народами ближнего и среднего востока (от Аккада до евреев и арабов). Было бы странно не обнаружить общности принципов стихосложения. А у семитов по-простому: выделить на строку энное количество ударений — и все равно, что и как разбросано между ними. Тонический (акцентный) стих без намордника. Конечно, это еще одна теоретическая абстракция, и собственно тоническое ударение в арабском (и персидском) языке не играет значительной роли. Однако в любом случае для европейского восприятия здесь нет ничего сверхъестественного. Особенно для русского. Следовательно, перевести Саади (и иже с ним) на русский язык вполне возможно. Если переводить не абстрактно, а с определенной целью. По логике, твердые формы чужого языка следует передавать своими — но столь же твердыми. Понятно, что надо уложиться в две рифмованные строки. Однако гибкость внутристрочных интонаций позволяет выбрать практически любой размер — а можно и вообще без размера, музыкально (почти как в оригинале). Русская интонация заведомо отличается от персидской — но, ведь, и расчет на другого читателя, восприятием которого мы управляем по законам его культуры. Более того, иерархия образа вовсе не обязана предстать новому читателю в том же ракурсе: каждой социальной группе подходит своя версия перевода — возможно, вообще не совпадающая с оригиналом ни лексически, ни по семантике. И это не вольный перевод — а истинно правильный. Копировать внешность — верх глупости. Пусть строение внутренней речи идет от оригинала — а ее наполнение бытовой конкретикой мы придумаем под себя. Кто сказал, что на каждую тему можно говорить только раз? Множественность переводов — вариации на тему, ее художественное прочтение. Поэты перепевают поэтов — не важно, своих или чужих, — из любого времени. Когда хочется подчеркнуть переводной характер двустишия, не возбраняется изобразить не суть дела, а способ ее выражения:
Но леопарды на Руси как-то не прижились... Можно малость отойти от внешней оболочки образа и поморализировать:
Или поиграть словами:
Или в "фольклорном" стиле:
Или даже так:
Все это разные грани одного и того же — и конкретный выбор зависит от предполагаемой аудитории. Другой образчик — Насер Хосров:
За счет заданного образным строем глубокого параллелизма, может сложиться впечатление метричности. Однако нахальное зияние [ta] — [rā] как будто специально поставлено, чтобы лишнего не приплели! Опять же, сравнивая с Саади, не замечаем почти никакого ритмического родства. Добавьте к списку других авторов — получите картину невероятной пестроты, восточный халат. Теория арифметической поэзии рассыпается в прах. Опять же, переводить можно по-разному. Если взять бейт в изоляции от предшествующих и продолжения, допускается вспомнить про стихи как послание человечеству:
С учетом всего, основательный разговор о рубаи. В России, да и почти всюду, рубаи — синоним Омара Хайяма. Личность легендарная — и приписывают ему аж полторы тысячи творений, хотя достоверно авторизованных не больше двухсот. Кто знаком с биографией — заподозрят неладное. При всем уважении к чужой гениальности, никак не ассоциируется с плодовитостью профессионального стихотворца образ выдающегося математика, переводчика античной науки, астронома, создателя точного календаря (который мы по необразованности именуем григорианским), основоположника новой науки — метеорологии, а заодно придворного астролога и грозы жадных махинаторов. Старые сборники рубаи — как сборники частушек, где безымянные попевки перемешаны с творениями известных авторов, их народными обработками и авторскими обработками фольклора. Хайям мог на досуге, ради отдохновения от бытовых проблем, развлекаться составлением таких сборников — с какими-то прибавлениями от себя. Это в его характере. Афишировать свою приверженность низовому жанру было бы не очень разумно. Но симпатии к раннему (еще не догматическому) суфизму в русле утомительности дворцовых разборок вполне естественны. Отсюда "хайямовская" идеология. Он не был поэтом — ни профессионально, ни любительски. Авторская поэзия в те времена жила только высокопоставленными заказами (или надеждой на оные). Хайяму заказывали совсем другое — и его авторство тут же растворяется в стихии самодеятельного творчества; из этой почвы, в сочетании с дотошностью ученого, растет точность и выразительность стиха, неповторимый стиль. Опять же, исходя из исторической личности, могу допустить, что Хайям отнюдь не стремился во что бы то ни стало поведать миру о себе — тем более путем тиражирования одной, даже очень удачной творческой находки. Полагаю, для него на первом месте не количество, а качество. Почему рубаи ассоциируется у нас прежде всего с фарси? За сотни лет до Хайяма арабские "газели" и "рубаи" входили в репертуар народных певцов, профессиональных и куртуазных поэтов (у которых учились европейские трубадуры). Книга песен и Ожерелье голубки дают представление об уровне мастерства и жанровом разнообразии. У Кайса бнель-Мулаввах аль-Мусаллия (один из прототипов знаменитого Маджнуна) читаем:
Это, между прочим, VII век — а не хайямовский XI-й. В переводе Евгения Елисеева (условном, как все переводы):
Заметим: внешне такая же форма подчинена совсем другой стилистике и теме. Есть у того же Кайса (и его современников) "почти настоящие" рубаи. Но если персидская газель еще как-то соотносится с арабскими аналогами — персидские рубаи отходят от лирической и философской медитации и ввязываются в политику, становятся формой классового протеста, выражением национального самосознания, средством массовой пропаганды — и рупором религиозного сектантства... Отсюда их неизменная популярность. Отсюда же осторожность признанных авторов — которым вовсе не хотелось потерять крупного заказчика. Внешне разделяя отношение к рубаи как к легкомысленной частушке, серьезный поэт мог позволить себе стилизации, — но располагалось это на задворках дивана, под видом пустой забавы. Тот же Навои долго извиняется по поводу однажды сочиненного рубаи, оправдывает бестактность необходимостью представить в тюркской поэзии персидские жанры во всей их полноте... Под занавес — Хайям собственной персоной:
Что видим? Та же фантастическая гибкость твердой формы, когда возможны практически любые интонации — лишь бы соблюсти мелодику и ясность стиля. Четверостишие полностью завершено: каждое слово на месте, и добавить нечего. Замечательна техника семантической рифмы: первая и третья строка — образ весны, вторая и четвертая — образ праха. Графическая рифма третьей строки чуть снижена переносом интонационного центра с окончания на третий слог с конца — но сильна образная связь; наоборот, вторая и четвертая строки точно рифмуются — но вместо повторения образа здесь, скорее связь по контрасту. В итоге — идеальное равновесие целого. Когда-то я пытался это перевести:
Конечно, не все задумки выжили. Но удалось-таки отойти от невесть как (по аналогии со сказками о Моцарте?) приклеенной Хайяму репутации беспечного гуляки. Мудрец вовсе не сзывает публику в кабак — напротив, он просит принять верное (dorost), взвешенное решение... Распорядиться мимолетностью земной жизни по-человечески, и если не отменить смерть — то хотя бы полюбоваться красотой, причаститься возвышенному. И ставит правильность в сильную позицию — в рифму, — чтобы не проглядели. Но потомки все равно умудрились опошлить... Еще один настоящий (а не сказочно-эпикурейский) Хайям:
Звукопись оригинала — полный восторг. Разбросанные по всему тексту созвучия рисуют точную картину: сумерки, запустение, неясные контуры невесть чего — и вспыхивающие то здесь, то там светлячки... Сцена из Вергилия. Это непередаваемо. Но даже поверхностный перевод — кое что:
Какая уж тут беспечность! Горечь утрат, бесконечная усталость, ненависть к мерзостям мира. Но где-то в глубине — искорка надежды. Не знаю, откуда впечатление, — но есть однозначно. Можно попытаться высветить это в (небуквальном) переводе:
Хотелось показать скрытое движение того же образа — и сделать стихи ближе традициям русского стихосложения: не проще — но прозрачнее. После долгого путешествия — вернемся к исходной печке и попляшем еще. Мы убедились, что твердая форма в поэзии — существо тонкое и деликатное: ее не разрушить формальными заменами, растяжением и сжатием, и можно даже вывернуть наизнанку, — но одно грубое слово способно погубить посев на корню. Одни формы вырастают из других, и вместо хаотического заселения, мы можем разбить зоопарк на логически выделенные отделы. Логика заведомо неоднозначна — поскольку результат зависит не от физиологии самих форм, а от поставленной задачи. А задач разных много. Некоторым образом, способ упорядочения твердых форм — тоже твердая форма. Где-то на самом верху — личные предпочтения, огрехи воспитания, передовые идеалы... Но может быть, что и в самом низу; это как посмотреть. Такое многоформенное целое мы называем иерархией. Легко догадаться, что в поэзии иерархия форм существует не сама по себе, а во взаимодействии с иерархией внутренней речи. Взаимность тут не для красного словца: всякую форму возможно развернуть по речевым уровням — а сами эти уровни в каждом конкретном случае оказываются отражением иерархии форм. В масштабах общества в целом, дело доходит до рычагов системы образования и типологии искусств. Действительно, с пеленок до седин наш внутренний мир лепят твердыми формами быта и рефлексии — а отличия одной формы рефлексии от другой напрямую увязаны с установками (коллективного) субъекта. Один (немаловажный) момент этого движения — согласование поэтики с возможностями языка; а в ответ — вклад поэта в его развитие — и отражение в науке. Пожалуй, ни одно искусство не может сравниться с поэзией по уровню рефлексивности. Что поделаешь, специфика материала! Соответственно, к освоению поэтических форм ведут как минимум, два пути. Первым делом — анализ уровневого строения какой-либо типовой конструкции. Например, сонет или рубаи характеризуются, с одной стороны, способом выделения строк, примерным их объемом, интонационным строем, и т. д. Все это параметры драматической речи. С другой стороны, есть общая стилистика и определенный круг тем — стороны образности. Наконец, на уровне схематической речи, мы обращаем внимание на количество строк, допустимые схемы их связи. В иерархии не бывает жестких границ — ее уровни плавно перетекают друг в друга, и элементы одного уровня запросто переселяются в другой (не отменяя качественных различий). Поэтому, например, общий характер интонаций допустимо рассматривать или как драматическую интонацию — или как метроритмическую схему; точно так же, лиризм или философичность — либо неформальный критерий образности, либо особенность композиции, и закон жанра. Тем не менее, все это вместе позволяет достаточно уверенно соотносить стихи с твердыми формами — при сохранении творческой свободы. Другой подход — от индивидуальности к общему. Сходство с чем-то хорошо известным воспринимается не как следование логике твердых форм, а наоборот, как оттенки формальности, творческое родство. Мы говорим, что вот здесь поэт вводит элементы метрики, использует определенную схему рифмовки, выстраивает композицию, затрагивает тот или иной круг тем... В итоге можно говорить, например, о сонетности, балладности, диалогичности и полифонии, об интимности или эпичности... Целое не похоже ни на одну из твердых форм — но использует сразу все. Разумеется, не по прихоти творца, а исходя из логики образа. По сути дела, речь о сопоставлении творчества разных авторов и выделении чего-то свойственного многим. Шекспир в каком-то смысле собеседник Петрарки; Маяковский — родня Фирдоуси; Пушкин — продолжение Ши Цзин. Кстати, забавная параллель: в русской поэзии сначала утвердился четырехстопный ямб (или хорей) — но его выразительные возможности очень скоро перестали устраивать поэтов и публику, и господствующим размером становится пятистопный ямб. Вспомним "дифирамб" Маршака:
В массовой поэзии — он до сих пор вне конкуренции. Но почти тот же процесс происходит и в классической китайской поэзии: древнейшие стихи (песни) используют четырехсложные блоки (четыре иероглифа, четыре слова); на смену скоро приходит пятисложник — и остается главным размером китайской поэзии по сей день (при всем песенных и стихотворных форм). Позволим себе следовать за потоком сознания и снова вспомним о сунских цы: это маленькая песенка на основе другого излюбленного народного размера — семисложника. Подобно сонету (и рубаи) песня состоит из двух частей ("экспозиция" и "кода"), каждая по пять "строк" (в записи отдельные стихи долгое время никак не отделялись один от другого: форма и ритм лишь подразумевались; предполагалось, что они всем хорошо известны и поются на знакомую мелодию). Однако твердая форма предполагает замену одного из слогов "цезурой" на вполне определенных местах:
При этом интонационная структура (музыкальные фразы) не всегда совпадает с формальными границами:
Все строки рифмуются на гласную [u] — с любым тоном, кроме второго (восходящего); напротив, четвертые строки экспозиции и коды по контрасту рифмуются на [é] (с восходящим тоном). Форма довольно сложная — учитывая обязательное требование музыкальности, возможности спеть. Но к этому надо прибавить еще и собственно поэтичность — чтобы характер образа навевал весьма широкие философские обобщения... Такие стихи — признак высокого мастерства. Вот начало стихотворения Hè Zhù (賀鑄, 1052 – 1125):
Автор прямо указывает: петь на мотив qīngyù àn (Лазуритовый столик).
Это о девушке, проезжавшей через городок, мимо дома поэта, — и он задумывается о ее весне и своей осени, и о том, как осень неизбежно сменяет весну — но в каждой поре своя горечь, и свое очарование... Стихи завораживают — о них нужен отдельный трактат. Но здесь мы сделаем сальто-мортале — и проведем нахальную параллель с французской народной песней-игрой:
Детишки поют эту песенку в детских садах (école maternelle), по ходу изображая разные способы сажать капусту (пальцем, ногой, локтем, и даже носом). Этот древнейший мотив вылезает в другой народной песне — уже про танцы:
Мелодия совершенно универсальная (вроде южно-российского "гоп со смыком") — и нещадно эксплуатируется вообще любой самодеятельностью, да и эстрада не брезгует:
Помните Покровские ворота? — там оно в русском переводе. Теперь обращаем внимание: первые две строки по структуре в точности совпадают с твердой китайской формой! Семисложник, плюс он же в разбивке на половинки. Выводы каждый делает сам. Слишком часто твердые формы ограничивают характерной строфикой или типовой композицией. Когда Евгений Онегин появился в английском переводе, англо-американцы (а также израильтяне) открыли для себя онегинскую строфу — и взялись кропать вирши по образу и подобию. К сожалению, это все, что они вынесли из "нашего все". Но чем лучше спесивые российские "теоретики", когда они однажды взыгравшую, было, моду на "неполную" рифму в катрене (только вторая строка с четвертой) объясняют влиянием переводов из Гейне? Почему бы им не обратиться к народной поэзии, где такое всегда было на каждом шагу (а кое-где и вообще обходятся без рифм). Напрягают фольклорные изыскания? Тогда хотя бы возьмите блатную песню: тексты с полной рифмовкой практически наверняка авторские — а по понятиям это не обязательно. В этой связи замечательный пример псевдонародной песни:
На первый взгляд — рифмуются только четные строки. Как в народе. Однако если прислушаться — звуковая связь нечетных строк неоспорима. Это особый стиль рифмовки, по совокупности звучаний ([о-а-а]), а не по буквальному повторению. О чем говорилось в предыдущей лекции. Можно было бы подумать, что (нестрогая) перекличка — простая случайность. Но в других строфах последовательно проводится тот же принцип: дровенки — елочку, нарядная — радости... Даже там, где, казалось бы, точно рифмы нет:
Но посмотрите: нечетные строки одной строфы однозначно рифмуются с соответствующими строками другой: песенку — серенький, укутывал — сердитый волк. Таким образом, здесь не только определенно авторская поэзия — но еще и очень профессиональная! Честь и хвала Раисе Адамовне. Используются не только фонетические, но и морфологические, и семантические связи. Конечно, оригинал — с минимальными отличиями (песня частями встроена в описание праздника). Но фольклорная стихия довела идею до логического предела. Есть иерархия форм. Побольше, поменьше. Одни "вложены" в другие. Выделение тех или иных иерархических структур — предмет особого исследования. Но формы в любом случае не существуют сами по себе, в отрыве от остального поэтического наследия. Они влияют друг на друга, и развиваются друг через друга. А если затвердевают — то не по отдельности, а дружной компанией, с учетом обычного в данной культуре употребления. Элементарные формы — стопа, строка, строфа... Над этим надстраивается (столь же иерархичная) композиция. Далее — строй сочинения в целом, тематические пласты, сквозные образы и литературные аллюзии. Какой из этих уровней выйдет на первый план — как поэт решит; при этом он может следовать и логике "суперформ" — общим принципам поэтики взятым как (относительно) твердая форма. В каждый момент поэт ориентируется на одно из возможных обращений иерархии, выбирает, как и насколько следует ее развернуть, распределить по уровням внутренней речи. Можно писать четырехстопным ямбом — а можно целыми катренами, — а можно еще и с определенным чередованием рифм, соединяя катрены в строфы — или, наоборот, тщательно отделяя один от другого (стансы). И так далее, и тому подобное. Корни твердых форм — в традициях народа, в истории культуры. Далеко не всегда автор отдает себе отчет в "длинных" связях: пусть их выискивает критика, или наука. Но крутой профессионал Маяковский не случайно прибегает к знаменитому кольцовскому пятисложнику (интонация 00100 — нечто вроде псевдорусского стиля в архитектуре):
Разбивка строк намеренно уходит от этой ассоциации; но по смыслу самое то — припустить эдакой богатырской былинности. Учитывая, что в поэме полно поэтических аллюзий (например, отсылки к Блоку), можно уверенно предположить здравый ум и трезвую память. Стиль и круг тем — один из уровней иерархии формы. Иерархически понятая твердая форма предполагает вполне определенное употребление — и вбирает в себя идею жанра. Можно сказать, что жанр — это формальность образа, а форма —стилистика жанра. Одно и то же с разных сторон. Внешне кажется, что поэты используют разные формы для стихов одного жанра — а одна и та же форма годится для самых разных тем. Как мы уже убедились на пример сонета и рубаи — это не так. Форма подвижна, пластична, — и все равно тверда. Ледник стекает с вершин — застывшая река лишь течет медленнее. Камень тверд — но может стать жидкой магмой. Но даже единичная форма, накрепко впаянная в текст, — это не аморфная твердость, а кристалл. Можно придать внешность кристалла стеклу — оно не станет драгоценным камнем. Бижутерия. Однако пластичность формы не исчезает в тексте — она лишь проявляет себя иначе. Важна не форма сама по себе, а способ ее применения, оттенки и мутации. В лабораториях выращивают изумруды удивительной чистоты — а природные ценятся выше. Потому что, кроме чистоты, в них есть неоднородности и вкрапления, придающие камню неповторимую, выразительную индивидуальность. Поэтическая форма дышит; в бездушной форме нет поэзии. Но есть форма форм, в которой предельно сконцентрировано все, что касается технологической и жанровой определенности. Моностих — символ поэзии. В нем зародыш сколь угодно пространных композиций: от бейта до эпической поэмы или романа в стихах. С одной стороны, это выхваченная невесть откуда интонация, единичный стих; с другой — законченное произведение, которому лишние детали не нужны. Чуть позже мы поговорим о поэтике моностиха. А пока — лирическое отступление, тень, иллюстрация, — размышление о народности гения. Не всякая классика великое искусство. Есть то, что выносит на вершину историческая потребность, классовая конъюнктура. Есть технологические достижения, демонстрация возможностей ремесла. Но бывают истинно художественные творения, ценность на все времена. Сколько их погибло в безвестности! Вода — жизнь, но в воде можно и утонуть. Поэзия легко растворяется в океане пошлости. И особенно это относится к тому, что по своей природе не способно ничего заслонить собой — слишком мало. Речь идет о поэтической миниатюре — особом жанре, который во многом остается на периферии большой литературы. Старый пруд Басё — настоящий шедевр. Века пристального внимания не смогли его опошлить, и до сих пор от него веет неожиданной свежестью, и можно без конца всматриваться в его глубины. Принято считать, что жанры японской поэзии — заслуга высшей аристократии. Сборники пестрят именами сановников, императоров и членов их семей. В частности хайку возводят к утонченной игре в рэнга (или хайкай), цепочку строф, с ее сложными правилами, напоминающими дворцовый протокол или религиозное действо. Позже — демократизация общественной жизни приводит к отказу от многих условностей и придает хайку формальное разнообразие и тематическое богатство... Классовая наука, как обычно, насилует историю, ставит ее в удобные для правящих кругов позы. Если образцы старинной поэзии нам известны лишь по деяниям знати — это говорит лишь о низком уровне грамотности народа, о дороговизне и недоступности средств письма, равно как и об отсутствии у людей минимальных условий для систематических занятий поэзией: досуг сильных мира сего зиждется на бесконечности подневольного труда. По своему творческому потенциалу японский народ ничем не уступает любым другим. Испокон веков, на всех континентах, верхи пользовались культурными открытиями народных масс, приспосабливая их к иной (по сути, антинародной) среде, — что неизбежно приводит к абстрактной условности, замкнутой в "утонченности" форм. Но если в классической персидской поэзии жанр рубаи не утратил корней и остался лишь "облагороженной" (иногда — мистически интерпретированной) разновидностью народного "куплета", — в Японии низовые жанры возможно реконструировать только по их отзвукам в древнейших письменных источниках, полностью зависимых от классовых интересов образованной элиты. Если китайская письменность, подобно письменам древних народов Африки, Азии и Европы, рождалась в гуще повседневности, обслуживая широчайший спектр хозяйственных (и в том числе ритуальных) нужд, — письменная культура Японии построена на уже готовом (заимствованном) фундаменте, она намеренно вторична — и тем самым подчеркнуто далека от культуры людей труда. Во многом это напоминает культурные перекосы в истории славянских народов, у которых старая (например, руническая) письменность начисто вытеснена чужеземной — орудием угнетения масс и насильственной христианизации. Как и в других странах, в Японии издревле существовали многоразличные жанры народной (долитературной) поэзии, первоначально синкретически слитые с бытом, с процессом труда, — а следовательно, и с музыкой, танцем, игрой, — или обрядностью. В частности — поэтический эпос, и трудовая песня, и яркие зарисовки в одну строфу. Для народного творчества не характерны масштабные литературные проекты: когда силы и время приходится отдавать тяжкой работе ради нищенского существования, прикасаться к искусству приходится лишь урывками, — и художественный образ передают по возможности скупыми средствами. Корни японской стихотворной миниатюры не в забавах аристократов, а в рефлексии трудового народа. С другой стороны, народу совершенно незачем стремиться к оригинальности — он и есть оригинал! Творчеству масс свойственна цикличность, повторяемость форм, воспроизводство каждой находки в тысячах индивидуальных вариантов. Это непосредственное следствие трудового происхождения всякого искусства вообще. В частности, большие форматы в народе возникают путем нанизывания одной "попевки" на другую; процесс этот принципиально нечем не ограничен и порождает, с одной стороны, бесконечные (заунывные или энергичные — в ритма труда) трудовые песни, а с другой — куплетные циклы, чаще всего по схеме proposta — risposta, как своего рода творческое состязание. Песенные переклички широко известны во всех культурах: например, таковы русские частушечные "бои" (часто между мужской и женской командами). Корни дворцовых хайкай именно здесь, во всеобщности народной традиции. Первично, свои традиционные мотивы есть у каждого рода, а позже — семьи (в рамках общей попевочной системы племени). Исторически отбираются наиболее устойчивые и яркие варианты; возникают собственно поэтические формы, в которые можно вложить отклик на любое событие и выражение любых чувств. В классовом обществе поэзия (как и все остальное) существует на разных уровнях: есть собственно народное творчество (барды, акыны, сказители) — и есть элементы формального образования, упражнения образованной верхушки, салонное остроумие (в духе европейского альбомного экспромта, или арабской Книги песен). Разумеется, одно тесно переплетается с другим: без постоянной подпитки снизу поэзия верхов просто не могла бы существовать. В Европе трубадуры (труверы, миннезингеры) почти не отличались от менестрелей (жонглеров). В Японии военное сословие (наемники) служило своего рода прослойкой между дворцовой элитой и бродягами из низов. Везде и всюду, наиболее значительные явления искусства чаще возникали в условиях, благоприятствующих снятию классово расщепленной культуры в синтетическом образе другого уровня, преодолевающем ограниченность наличного бытия — это относится и к поэзии Басё. В этом контексте постепенный переход от крупных форм к единичным миниатюрам можно расценивать как своего рода "возврат" к народным корням, связанный с изменением классовой структуры японского общества, с зарождением нового, капиталистического уклада в недрах феодализма. Авторство, присвоение творческого продукта — зеркало характерной для капитализма индивидуализации классовых отношений, с ростом всеобщего отчуждения. Та же тенденция закономерно приносит идею поэтической грусти (物の哀れ) на смену легкости и юмору прежних, игровых стихов. И снова, это ставит японскую поэзию в один ряд с литературой других народов: ср. hondo в Испании, dorul в Румынии и Молдавии; парадоксальным образом в том же ряду появляется блюз. Но есть и различия. Стихотворная миниатюра как особый жанр выражает особый взгляд каждого народа на природу языка и его отношение к деятельности. Предполагается, что существует наименьший объем текста, в котором возможно представить целостный образ. А это определяет и объем самого образа — то есть, в конечном итоге, своего рода квант деятельности. Семнадцать слогов хокку стали такой квинтэссенцией поэтичности для японцев. И вот — стихи Басё:
В Европе утвердилось правило записывать хокку в три строки: 5+7+5 слогов. Имитаторы так и пишут. В оригинале — это моностих, целостная интонация с цезурой после пятого (иногда двенадцатого) слога. Здесь цезура как бы заменяет пропущенный слог, звучит — по-разному, в зависимости от окружения. Не делит стих на два, а наоборот, склеивает части в целое. А уж перенести мидзу-но ото на следующую строку — грубейшее искажение сути дела! Нет здесь никакого звука воды самого по себе. Есть звук того, как лягушка плюхается в воду. Да, по грамматике, чтобы передать эту идею, нужны дополнительные падежные показатели. Но поэт не обязан выражаться лишь грамматически законченными фразами! Редукция грамматики — первая из определяющих черт внутренней речи (см. Лекцию III). И вообще, поэт имеет полное право в любой момент переделать грамматику, если она его по каким-то причинам не устраивает (об этом рассказ в одной из следующих лекций). В данном случае смысл совершенно прозрачен, опущенные детали восстанавливаются во внутренней (драматической) речи — и незачем разжевывать очевидное. Если но то пошло, и экспозиция дана не развернутым предложением, а предикативно: старый пруд. Тут, впрочем, тоже не все на виду. Знак 古, конечно, означает старый — а здесь к тому же еще и заброшенный. Однако его коннотации охватывают всю сферу давно прошедшего — включая не только вещи, но и продукты рефлексии. В частности, речь запросто может идти не о реальном водоеме, а о его мысленном образе — о памяти. Столь же многослойно や в конце экспозиции: с одной стороны, это всего лишь междометие (аналогичное старокитайскому 也); но Басё, по свидетельствам современников очень серьезно работал над стихами — и было бы наивно полагать, будто он вставил что-либо "для размера". Очень к месту оказывается присущий этому слогу оттенок вариантности (как в сочетаниях и ..., и ... — или ..., или ...) или "спускового механизма" (как только ...). То есть речь о том, что вдруг (но не впервые) является взору — преимущественно внутреннему. И тут мы замечаем, что во второй части моностиха (коде) никакой лягушки по факту нет! — и никакого движения! — только звук, как будто... — но он мог и почудиться, присниться! Можно практически наверняка полагать, что Басё намеренно создает эту многоплановость, мерцание смыслов. Разумеется, не так, чтобы изобретать технические трюки, — а по поэтической интуиции, чутьем. Насколько мне известно, в Китае моностих не получил широкого распространения. Вероятно, это связано с исторически ранней канонизацией стихосложения, включая реестр твердых (оплачиваемых по твердым расценкам) форм — главным образом, в связке с музыкой. Тем не менее, редукция грамматики и обширность круга ассоциаций оставались первостепенными признаками поэтичности на протяжении многих веков. Поэтому легко вообразить себе китайский моностих как твердую форму — хотя бы для перевода тех же японцев (если бы они жили на полтора тысячелетия раньше). "Древнекитайский Басё" мог бы выглядеть примерно так:
Выразительного иероглифа 込 в китайском языке нет; но по-японски 飛び入る [тобииру] может употребляться как синоним 飛び込む [тобикому]. Вместо обычного китайского "нырнуть" 潜入 qiánrù здесь уместно сочинить слово "влететь" 飛入 fēirù, подчеркивая характер движения ("полета") — поскольку дальше идет 水 shuǐ вода, а глагол 入 принимает прямое дополнение, получается убедительный образ: влететь в воду. Заметим, что интонация китайского стиха прямо-таки рисует этот полет с берега в воду (и высунуть голову после!):
Звукопись отличается от японской — но тоже интересно. Так, японское [ото] звучит глухо ("плюх!"); а по-китайски — как будто звук и отзвук, колокольчиком, с реверберацией (например, возвращение к памяти). Соответственно, различия в настроении: по-японски — грусть, по-китайски — светлые воспоминания. Перевод с точностью до наоборот... В принципе, это (необычную для Китая) структуру легко привести к традиционным четверкам — если чуток добавить грамматики. Но стоит ли? По ощущениям, девятисложный моностих — минимальная стихотворная форма: она достаточно выразительна, чтобы не требовать продолжения, — и вполне выразительна, чтобы вместить многоплановый образ. От ни на что не претендующих забав — вернемся к сухой теории. Как уже говорено, первобытность литературной поэзии связана с осознанием образной нагрузки самого факта деления текста на стихи, безотносительно к их внешней связи. Исходно, объем стиха ничем не ограничен — поэты экспериментируют, пробуют на вкус. При этом стих-абзац ("ритмическая проза") изначально сосуществует с народными песенно-танцевальными формами, построенными из коротких типовых интонаций (попевок). Народная песня синкретична — для нее важен характер целого — и отдельные попевки не воспринимаются как самостоятельные единицы, стихи; собственно стихосложение возможно лишь с распадом первоначального синкретизма — зарождением поэзии как искусства. Народное творчество противопоставлено литературе как фольклор — но между любыми уровнями иерархии возможны промежуточные ступени. С одной стороны, стих приобретает регулярность, метричность, — и приближается по своему строению к попевочной структуре. Навстречу ему — народное творчество переходит от крупномасштабных блоков к смешению относительно компактных "куплетов" (не обязательно одинаково устроенных). В переплетении этих потоков развиваются особые поэтические конструкции: достаточно крупные, чтобы вписаться в фольклор, — но предельно краткие, неразложимые на отдельные элементы — стихи. Они самодостаточны, они могут как соединяться с другими — так и восприниматься поодиночке, вне композиционного контекста. Эти "кванты поэзии" хорошо структурированы: в них есть хорошо отделенные друг от друга зачин (экспозиция) и концовка (кода); характер связи одного с другим бывает разный — но разделить это сколько-нибудь устойчивым образом на две обособленные интонации никак нельзя. Таков греческий гекзаметр: в нем есть цезура — но интонационно это один стих. Точно так же бейт носителями языка воспринимается не как две рифмованные строки, а, скорее, как как одна строка с цезурой (иногда с внутренней рифмой). В точности таковы русские колыбельные:
Таковы стихи шумерской и вавилонской поэзии, буддийские и авестийские гатхи, стихи экклезиаста — и японские хокку. Античный гекзаметр больше известен как размер эпических поэм — или крупных драматических форм. Но в рамках целого такие строки интонационно не связаны друг с другом — и потому возможно нанизывать один на другой до бесконечности. С этим же связано отсутствие рифм — в однородной композиции они просто не нужны. Характерна судьба творений сирийского вольноотпущенника Публилия: его комедии шли во всех римских театрах — но тут же растаскивались публикой на отдельные стихи-афоризмы, и только в таком виде известны нам. Китайский чэнъюй — того же, литературного происхождения. Минимальная порция классики. В отличие от старинных форм моностиха, вариаций одной универсальной структуры, современные образцы этого жанра отличаются значительным разнообразием — поскольку они возникают в контексте развитой поэтической культуры — на основе хорошо известных форм, как их редукция, приведение к минимально возможному объему. Древняя поэзия (как и древняя наука) ищет единственную первооснову; современная поэзия — взаимодействие многих элементарных частиц. Моностих — продукт долгой эволюции поэтического языка; фольклор не знает собственно стиха — а потому и моностих невозможен. Это абстракция абстракции, рефлексия рефлексии: для того, чтобы интонация воспринималась как моностих, надо иметь перед глазами множество крупных форм и выделить общее для всех. Моностих зарождается в устной речи — но рождается только в письменной поэзии. Даже если это прорицание, надпись на посуде или обелиске, альбомные художества или просто хулиганство: здесь был Вася. Или эпитафия:
Поэтические формы внутренне иерархичны — и в каждом конкретном воплощении на первый план выходит какая-то одна сторона. Для моностиха годится далеко не все. Например, одиночная силлаботоническая стопа (ямб, или амфибрахий) на моностих явно не тянет. Почему? Потому что стопа — единая интонация, ей не хватает внутренней структурности, без которой нет сколько-нибудь значительного образа. Слишком длинные стихи, при всей своей образности и красоте, также не дают ощущения завершенности: к большой куче песка всегда можно добавить еще песчинку; невозможно вместить сотню слов в одну интонацию — а любая структурность превращает стих в единство нескольких стихов, в строфу. Минимальный объем русского моностиха — два слога:
Этот "нонет" не сливается в двусложную стопу; его можно представить себе и концом чего-то объемного — или, наоборот, началом. Или переходом от одного к другому. Меньше уже никак: русский язык не позволяет вложить структуру в единичный слог. Теоретически, и такое возможно — но лишь в особом контексте, когда все остальные элементы представлены неязыковыми средствами. Вспомним, что китайский иероглиф — не просто единица, а звучание, обыгранное тоном, растянутое в интонацию, — что вполне соответствует (двух- или трехсложной) стопе русского "метризованного" стиха. Поскольку моностих-стопа неустойчив — он требует внеязыковой организации; например, в каллиграфии иногда возникают (внутреннеречевые) образы на основе знака самого по себе. В языках европейского происхождения нечто подобное вводится особенностями графики (орнаментальность, вариации типографских решений, подвижные картины и т. д.). В любом случае, моностих предполагает знакомство публики с другими твердыми формами: интонация должна быть на (внутреннем) слуху. Иначе это будет восприниматься не как стих, а как (возможно, ритмизованная) проза, афоризм. Конечно, провести грань трудно — тут решает культура поэтического творчества, и обстоятельства восприятия. Подвижность формы не позволяет моностиху слишком затвердеть: как всегда, устное исполнение фиксирует лишь одну из возможных интонаций. Но если в развитых стихотворных формах вариации допустимы лишь ограниченно, с учетом взаимодействия части и целого, — моностих предельно неоднозначен. В этом тоже его культурное значение как символа, квинтэссенции, концентрата поэзии. Современная русская поэзия освоила все возможности: русский моностих текуч и многолик. Однако в квантовополевом ландшафте существуют фундаментальные поля, интерференция которых порождает все наблюдаемые эффекты. Универсальным размером русского стихосложения стал пятистопный ямб — тонический аналог античного гекзаметра, итальянского сонета, или китайского пятисложника. Подобно хокку, пятистопный ямб объединяет две интонационно выделенные части и допускает два варианта расположения цезуры: после второй или после третьей стопы (как у фермиона: спин вверх — или спин вниз) — что существенно меняет характер интонации. Ср.:
и совсем иначе:
Однако, в отличие от того же гекзаметра, пятистопный ямб слишком устойчив — и в чистом виде не годится для строительства крупных форм. В качестве "клея" используют женские, дактилические и гипердактилические окончания — а также ритмический "затакт" (анакруза). Все это плавно перетекает в моностих, значительно расширяя и без того универсальную выразительность. Разумеется, моностих может использовать любые другие размеры — или не использовать никаких. В последнем случае внутреннюю диалогичность и образность придется воссоздавать каким-то иными средствами — но в поэзии много разных гитик! Главное, чтобы текст воспринимался как стихи — нечто, не сводящееся к тексту. Тут мы опять приходим к стилистической и тематической насыщенности твердой формы. Моностих — о чем это? Почему из двух формально одинаковых строчек одна воспринимается как поэзия — а другая нет? Предельная подвижность и гибкость позволяет вложить в моностих практически любое содержание, настроение, порыв... Каламбур может быть уместен не меньше, чем философичность, чувственность — или холодный цинизм. Обычная для поэзии игра слов в инфинитезимальном объеме особенно заметна, кажется утрированной. Так как отличить моностих от не-стиха? Ответ прост: иерархичность. Если текст развертывает иерархию внутренней речи — это стихи. Если нет — что-то другое. На уровне драматической речи — внутренний диалог. Интонация не может быть плоской. Как именно расслоить единство — к делу не относится. Чаще всего мы видим два интонационных пика, две выраженные точки фиксации. Даже если формально не предполагается никаких пауз, цезур:
Намеренное отсутствие запятой после междометия (или предлога?), твердая точка в конце, — не случайность, а точное обозначение поэтического намерения. Плавная непрерывность в голосе. Тем не менее, всякий почувствует логическую паузу после закрой — и два интонационных центра. Это подчеркивает двойная внутренняя "рифма" на [о] — [о] : по началу и концу каждой их двух (семантических) синтагм (при фонетическом контрасте в центральных частях). Техника филигранная. Но никак не ради пустого трюкачества: сложность интонации наводит на мысль о сложности образа. Известно, что Брюсов не сразу нашел точные слова — были предварительные варианты. Вспоминаем о тщательной отделке стихов Басё. Но и неюпитерам дозволено — хотя бы стремиться. Однажды подслушал на улице:
Реплика — готовый моностих:
Однако хотелось большего. Перебрал десяток вариантов — и остановился на этом:
Именно так, без точки. Обе части ответной реплики сливаются в одно, и относится это уже не только к единичному я — появилось другое, всеобщее звучание. О человеке вообще, и не только о человеке. Несколько разных (стилистических и тематических) планов. Чуть меньше яркости — но больше глубины. Любые стихи говорят о том, чего в тексте нет. Открытый текст вне поэзии. Тем более это относится к моностиху. Мало места для объяснений — соображайте сами, включайте в работу все ресурсы вашего духа! Моностих — выхваченное из вечности мгновение. Которого достаточно, чтобы увидеть вечность. Похоже на то, как мы сразу чувствуем дыхание беды, духовную глубину — или верность теории. Неуловимый штрих — и никакие иные свидетельства не нужны. Схематически — текст представляет свой контекст. Что-то происходит, течет своем чередом. Нам показали кусочек целого, но явленное — только намек, и приходится достраивать ситуацию, догадываться, почему именно так — и нельзя иначе. Как в физике: достаточно написать одну формулу, закон движения, — а из нее следуют и пути планет, и эволюция звезд, и строение микромира. Если моностих не рассказывает никакой истории — это всего лишь формальный трюк. Важно понять: моностих — самостоятельная поэтическая форма, а вовсе не вырванный из контекста фрагмент, не ужатая донельзя версия чего-то еще. За ним — все разнообразие человеческого бытия. Точка — в которой бесконечность. Как будто взошли на неприступную вершину — и перед нами целый мир. Но речь идет не о лаконизме, не об афористичности. Моностих — полноценная поэзия, он вбирает в себя все уровни поэтики, живет по поэтическим законам. Если образ требует краткости — будет кратко; если уместна избыточность — мы не поскупимся. Нужна серьезность — стих серьезен; потребуется — глубочайший лиризм. Даже просто хохма — но лыком в строку! Французская литературная классика дарит бессмертный образец поэтического волшебства (Jean Chrysostome Larcher, Paris en été, 1783):
По-французски строгий четырехстопный анапест; по-русски — пятистопный хорей... Но суть дела от этого не зависит. А суть в том, как логика сталкивает наши и с нашими или — подобно столкновению стихий. При цитировании часто заменяют ou на второе et — что начисто уничтожает и форму, и образ. Роскошная звукопись: хиазм ведет к монотонному повторению du vent — что создает эффект реверберации (и внутренней дрожи, озноба), подчеркивает нескончаемость ветра; струящийся звук дождя в сочетании de la pluie — им все начинается и заканчивается: вода становится воздухом, воздух водой... Larcher не просто "солдат и философ" (как пишут словари) — он истинный поэт. Подведем итоги. Фигуры поэтического языка построены так, чтобы облегчить переход от звучания (или видимости) к внутренней речи. Например, ритмическая организация сразу вырывает текст из обыденности, заставляет прислушаться и переосмыслить. Когда мы обращаем внимание не только на содержание и облик, но и на характер их связи, — возникают твердые формы, иерархии выразительных средств, которые сами по себе представляют определенную идею, позволяя автору дописывать необщее выражение лица. Каждый из таких "шаблонов" универсальным образом соединяет внешнюю и внутреннюю нормативность, подобно тому, как философские категории унифицируют методы самых разных наук. История поэзии показывает, как одни технологии сменяются или объединяются с другими: одни задерживаются надолго — другие создаются ad hoc и почти забыты. Литературная мода, следуя логике общественных преобразований, подсвечивает то одну твердую форму, то другую, — и остаются стихи, — как память, как тень. В этой стихии фольклор, народное творчество переплетается с поэтическим искусством, с литературным самосознанием. Одно развивается через другое. Будущее — за синтезом противоположностей, когда общественное разделение труда — уступит место его общественному распределению, классовая вражда сменится сотрудничеством и взаимопомощью. Зачатки такого искусства мы видим уже сегодня в синтетичности новых стихотворных форм. Однако осознать логику поэтической свободы намного труднее. Она подсказывает нам наши сны, открывает дорогу в будущее. Но понять, что именно ведет нас к нему, мы сможем лишь когда доберемся до чего-нибудь. А пока — будем тверды в своей решимости разумно устроить этот мир и удивиться совершенству еще не встреченных форм.
Комментарии
28 Ср. аналогичные указания в песнях Беранже.
|