Любовь изнутри
Мир неисчерпаем — и любовь неисчерпаема, как мир. Но, у людей нет (и никогда не было) задачи что-то исчерпывать; наше дело творить, создавать, добавлять новое, чего без нас и появиться бы не могло. Вот для этого мы и присматриваемся к миру и самим себе, пытаемся понять, что уже есть, — чтобы потом сделать не так.
Хороший инструмент в любом деле пригодится — и на помощь приходит логика. Стоит нам нарисовать хотя бы одну схему — логика подсказывает, какие другие схемы из этого можно вывести по когда-то найденным правилам. Не факт, что получится хорошо, — но, по крайней мере, хотя бы что-то получится, и над этим можно думать, примерять к насущным (и отдаленным) потребностям. Если годится — работаем по плану; не подходит — ничего страшного: это тоже опыт — а схемы развертывать будем в другом направлении.
Что мы уже знаем? В любви человек (как субъект деятельности, способность пересоздавать мир) как бы переселяется в другого человека, полностью себя ему отдает, и уже от его лица действует на то, что осталось после переселения, в надежде добавить к этому новые уровни духовного развития (то есть, сделать себя еще способнее). Схематически это опосредование духовного роста другим субъектом представляется циклом воспроизводства:
|
субъект ⇒ субъект' ⇒ субъект
| |
Здесь "предмет любви" (условно обозначенный как субъект') — это не просто внешняя вещь, а полноценная личность, которая объективно существует (то есть дана любящему внешним образом) и ведет себя вполне самостоятельно. В частности, может вообще не догадываться о том, что ее (или его) любят и тем самым духовно подрастают. Однако в качестве предмета любви эта личность (иногда незаметно для себя) обретает новые черты, вступает в такие отношения с другой личностью, когда одно от другого вообще не отделить: любящие и любимые действуют не только сами по себе — каждый из них воплощает действенность другого.
Звучит мистически. Так это зачастую и воспринимает неожиданно столкнувшийся с любовью обыватель; если он к тому же немножко философ или поэт — рождается еще одна мистическая философия или романтическая поэзия. Однако за странной видимостью — вполне реальные культурные процессы, способы развертывания иерархии материального и духовного производства. Человек в качестве разумно действующего субъекта — не просто совокупность материальных тел (вещи, организмы — плоть), но еще и особая организация их движения, взаимодействия друг с другом — и со всем остальным, что этой плоти не принадлежит (разумеется, различие относительно и условно — но в каждом конкретном отношении оно есть). Эту организацию можно воспроизводить намеренно, подобно тому, как из вещей делают вещь. Однако вещи сами по себе равнодушны к тому, что с ними делают люди; точно так же человек может не осознавать особого (любовного) отношения других людей к нему — которое, тем не менее, существенно меняет общественную значимость его поведения. Например, если я занимаюсь производством гвоздей — я (как правило) понятия не имею, для чего конкретно будут их использовать; в каких-то условиях общественная важность моих занятий очевидна (скажем, если делать не гвозди, а патроны в военное время) — но я могу и не знать, что кому-то в данный момент не хватает именно этого. То же самое в духовном производстве: мы выстраиваем самих себя — и не обязаны делать это "на заказ" (даже социальный); однако кому-то важно, чтобы мы делали себя именно так, — и от этого его самостроительство продвигается вперед семимильными шагами. Так возникает любовь. Во всех ее разновидностях: осознанная или не очевидная, одинокая или взаимная, персонализированная или распределенная...
Когда кого-то любят, он духовно вырастает, независимо от того, знает он об этой любви или нет; а если знает — безотносительно к тому, принимает или отвергает ее. Как бы сам человек ни относился к тем, кто его любит, он через эту любовь приобретает новые грани своего общественного бытия — становится другой личностью. Поэтому цикл воспроизводства (развития) субъекта всегда можно обернуть:
|
субъект' ⇒ субъект ⇒ субъект'
| |
Эта взаимность — один из важнейших признаков настоящей любви.
Сравнивая триаду любви с универсальным строением деятельности
|
объект → субъект → продукт
| |
приходим к еще одному взгляду на любовь: тот, кого мы любим, играет роль субъекта в производстве нашей духовности (субъектности); каждый из нас — продукт чьей-то любви. Отсюда вывод: в бездуховном мире духовность не растет. Вульгарный взгляд на человека как биологическое существо означает в таком контексте невозможность возникновения разума в неразумных обстоятельствах. Поскольку же сущность человека понята как совокупность общественных отношений, логично допустить, что какие-то общественные функции изначально не привязаны к единичному телу, а всплывают как коллективный эффект в системе взаимодействующих тел. Культурное закрепление способов построения деятельности, возможных проявлений сознания вообще, — допускает представление их своего рода "знаками", привязку к чему-то единичному, что мы и называем индивидуальным сознанием; это единичное действует как часть целого — но в итоге оказывается, что целое состоит из частей, и общее движение складывается из многих частных деяний, подобно тому, как письмена обозначают речь — и как речь озвучивает письмена. Тем самым не только человек представляется совокупностью общественных отношений, но общество представляется совокупностью форм общения конкретных людей.
Объединяя прямую и обращенную триады, мы видим, что в любви человек одновременно присутствует во всех трех позициях, выявляет разные стороны своей целостности, уровни иерархии: он любит, он любим, он любовник (как единство противоположностей, полномочный представитель любви). Для краткости, можно обозначить эти "роли" (общественные функции) буквами A, B, C соответственно. Разумеется, сами по себе обозначения никакого смысла не имеют — и не следует ориентироваться на значения слов "по словарю": здесь это всего лишь ссылки на философские категории, которые ни к каким словам не сводятся, и раскрыть их содержание можно только в контексте определенной деятельности (в частности, философствования). Таким образом, от триад любви как "общения" Разумеется, сами по себе обозначения никакого смысла не имеют — и не следует ориентироваться на значения слов "по словарю": здесь это всего лишь ссылки на философские категории, которые ни к каким словам не сводятся, и раскрыть их содержание можно только в контексте определенной деятельности (в частности, философствования). Таким образом, от триад любви как "общения"
мы перешли к схеме внутреннего строения субъекта в любви (а значит, и внешних проявлений любви как таковой):
Буковка A представляет внутри субъекта S его позицию в первом звене исходной (внешней) схемы S ⇒ S' : способность и потребность любить в проекции на другого человека (или иной предмет любви), когда этот другой воспринимается как жизненно необходимый и требующий постоянного внимания; такое состояние мы называем влюбленностью. Здесь пока лишь возможность любви, активный поиск себя во внешнем мире — и потому такая любовь заведомо эгоистична. На втором уровне буква B отвечает противоположной позиции, звену S' ⇒ S, понятому как "поглощение" другого, превращение его в часть себя; в отличие от влюбленности, мы видим не себя в другом, а другого в себе, как то, что определяет внутреннее (духовное) движение, — и не можем обходиться без него, ибо это означало бы перестать быть собой. Возлюбленность окрыляет: благодаря другому, мы вдруг открываем в себе целый мир. Любить — это всегда прекрасно; но быть любимым — полный восторг. Противоположности сходятся: речь идет в первую очередь о себе. Жажда любви служит материалом, которому предмет любви придает определенную форму. Единство материала и формы делает любовь содержательной: это отвечает внешнему единству любящего и любимого (единству в деятельности), снятию любых различий между ними — когда для общества они одно целое, коллективный субъект (при этом слово любовник вовсе не обязательно подразумевает плотские утехи: например, любовник истины — или баловень судьбы). Однако не просто вовлеченность, не только участие в совместной деятельности, — но и сознание тождества одного другому, и важность воспроизводства этой неразрывности; отсюда появилась в схеме буковка C (с намеком на англоязычное словоупотребление).
Условно можно соотнести выделенные таким образом компоненты субъекта с местоимениями я (A), ты (B), мы (C: я = ты). В норме эти стороны не противопоставлены друг другу: для полноценного развития нужны все вместе. Условия жизни в классовом обществе, классовое воспитание, способны привести к внутреннему расщеплению, нарушить целостность личности. Если я и ты противоположны как рыночные агенты — подлинной целостности мы не возникает, и это приводит к деградации деятельности и психики (что неизбежно сказывается на уровне внешнего общения). При нормальном развитии мы легко превращается и в я, и в ты: в любой деятельности каждый из двоих представляет их единство, действует не сам по себе, а как бы вдвоем. Такая любовь — не союз двоих (я + ты): союз соединяет разных — а в любви я и ты — одно и то же. Поэтому, в частности, любовь никак не связана с созданием семьи.
Как только у нас появляется иерархия, есть и возможность ее развертывать различными способами (обращать). На вершину иерархии в каждом из субъектов любви могут выходить те или иные компоненты: когда все хорошо, это происходит динамически, по ходу общения (или общественной связи); но бывает и так, что одна из ролей оказывается субъективно предпочтительной, — как правило, это связано с условиями роста и деятельности, ограниченностью (частичностью) человека в классовом обществе. Так, преобладание уровня A может проявляется как склонность к доминированию, стремление построить партнера под себя; с другой стороны, преувеличенное внимание к своему влиянию на другого может (в зависимости от знака) чувствоваться как благодеяние ("я тебе столько дал") или стыд ("я тебе всю жизнь отравил"). Напротив, уровень B преувеличивает достоинства предмета любви, вплоть до обожествления — и эта требовательность часто делает жизнь любимых невыносимой, поскольку приходится как-то соответствовать идеалу, быть его солнцем, — и (в зависимости от знака) светить или обжигать.
Когда партнер легко принимает предлагаемую роль, возникают довольно устойчивые "полярные" пары (A—B); однако полноценное (свободное) общение невозможно без регулярной смены позиций, вне обращения иерархии, — а застой неизбежно приводит к деградации отношений, выводу их за рамки субъектности. Капитализм устроен так, чтобы усиливать и закреплять однобокость, деформировать личность — это следствие всеобщего разделения труда. Компенсировать подобные деформации можно лишь изменяя характер совместной деятельности (образ жизни), что в классовом обществе доступно далеко не всем (независимо от имущественного положения).
Партнеры (как роль, частичность любящих в одной из возможных структур) могут иногда претендовать на одинаковые позиции: (A—A) или (B—B). Заметим, что при нормальном общении ничего страшного здесь нет: такие "запрещенные" состояния вполне возможны, поскольку любовь универсальна, захватывает все возможности — не отказывается ни от чего. Виртуальные нестыковки лишь придают пикантность любви, усложняют и обогащают ее, дают возможность сознательно менять историю. Проблемы и конфликты связаны с социальным (рыночным) закреплением ролей, недостаточной подвижностью иерархий.
Точно так же, губительно для любви и застаивание во "взрослой" фазе, на уровне коллективного субъекта (C). Личность — другая сторона (уровень) индивидуальности, различия — источник духовного развития. Если нет единичных субъектов — и любить некому.
Можно заметить внешнее сходство нашего "алфавита любви" (ABC) с психологической теорией Эрика Берна, ставшей стандартом во второй половине XX века. Параллелизм не случаен (в обоих случаях мы говорим о личности) — но относиться к нему надо с осторожностью. Прежде всего — речь о разных предметных областях: психология личности — лишь проекция общественной жизни на биологическую основу, учет качественного отличия человеческой психики от психики животных. Одни и те же схемы получают на этих уровнях (органическом и общественном) разную интерпретацию. Переносить напрямую выводы из одной предметной области в другую — логическая ошибка: перенос возможен, если есть ясное представление о связи предметных областей, обуславливающей процедуру переноса ("применения").
В теории Берна уровни личности (Родитель, Дитя, Взрослый) — даны изначально и одинаковы у всех и всегда. Это типично буржуазная методология, выражение капиталистического разделения труда. Вместо берновских "гомункулусов", наша философия любви говорит о разных сторонах одного и того же, о процессе воспроизводства человеческой духовности, предполагающем развитие сразу всех и переход одной в другую как внутренний процесс, обусловленный реалиями общения в рамках определенной культуры. То, что в психологической теории служит (неопределяемой) предпосылкой ее предмета, у нас взято как продукт деятельности; наша задача — осознать возможность разумной организации этого производства и заняться поиском соответствующих культурных механизмов. Уровни субъекта в любви заведомо не одинаковы у разных людей — поскольку каждый из них участвует сразу во многих производствах, и помимо биологического тела развивает намного более обширное неорганическое тело, индивидуализированную совокупность природных движений по неприродным законам. Это стороны конкретной личности — а не абстрактной личности вообще; отсюда бесконечное разнообразие любви. Буржуазность теории Берна проявляется и в стремлении выстроить "властную вертикаль", поставить Родителя над всеми, а Дитя закрепить в нижней позиции. В такой схеме Взрослый часто выражает претензии буржуазной интеллигенции на исключительное ведение сферой духовности. Это вполне соответствует действительной организации капиталистического общества — которую буржуазная система социализации вбивает в каждого еще до рождения. В любви ничто не ниже и не выше другого — одно легко становится другим. В какой последовательности мы выпишем буковки ABC — зависит от обстоятельств общения и от того, что мы собираемся в нем усмотреть. С другой стороны — всякое производство (в том числе духовное) регулярно возобновляется, замыкается в цикл, в котором порядок уже не играет роли — и движение одного уровня обратимо на другом. Поэтому следовало бы выйти из плоскости, изобразить развертывание любви в личности трехмерной схемой:
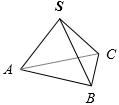
Но и это еще не все. С одной стороны, движение в цикле (ABC) приводит к развертыванию иерархии каждого из элементов: в нем представлены оба других как внутреннее различие, отражение внешних связей; эта идея отчасти проникла и в берновские модели — но в силу жесткого характера межуровневых отношений такое расширение там приобретает оттенок произвола и не раскрывает всех возможностей. Но еще важнее то, что в иерархическом подходе никакая схема не возникает сразу в готовом виде — ее предстоит вырастить из чего-то первоначального. Исходно уровни субъекта в любви не отделены друг от друга — в этом синкретизме субъект сразу будет и одним, и другим, и третьим. Чуть позже (хронологически или логически) возникает сознание расщепления надвое, двоякого отношения к миру (к предмету любви). И только по мере развития общности взаимоотношения этих противоположностей оказывают внутренне опосредованными, превращаются во внутреннюю деятельность, цикл саморазвития личности:
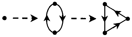
На каждом из этих этапов любовь проявляется по-особому — особенно если учесть, что развертывание иерархии у обоих может происходить по-разному.
Даже это простейшее построение наглядно показывает разнообразие и сложность любви. Нарисовать "полный комплект" формул в принципе невозможно — да и не нужно: достаточно нескольких иллюстраций. Разумеется, было бы странно ожидать неожиданных открытий в том, что практикуют веками и тысячелетиями. Но даже простое упорядочение уже известного позволяет делать практические выводы, сознательно выстраивать свое поведение — творить любовь. Никто, конечно, не будет выверять каждый жест очередной триадой; однако поиграть схемами бывает полезно: уловить основные принципы, получить представление о том, что вообще может быть... В каждом конкретном случае любовь развернется по-своему, а "домашние заготовки" — как пряности: с ними вкуснее, но переборщить ни в коем случае нельзя. Когда мы учимся танцевать — узнаем фигуры, запоминаем связки и вариации; потом остается только танец, в котором все это, конечно же, присутствует — но никто и не вспомнит, что именно, и в какой последовательности. Обрести такую свободу можно лишь годами упорной работы над собой. Любви тоже приходится учиться всю жизнь. Категориальные схемы — удобный инструмент, подспорье в работе. Главное не забыть, что мы говорим не о буковках, и не об абстрактных идеях, — разговор о любви. От того, что мы обозначили субъекта деятельности буквой S — он не перестает быть живым человеком, со всеми его великолепными случайностями; но здесь нам интересна лишь часть этой определенности, бытие в любви. Для имеющихся типов культурной связи мы придумали буквенные обозначения — однако в каждом конкретном обществе такие роли придется воплотить в его собственном культурном материале, увязать со способом производства и всевозможными надстройками. Рабовладельческий строй лишь в зародыше содержит средневековые формы любви; на следующей ступени, капитализм вбирает наследие прошлого — но везде и всюду внедряет рыночное опосредование. Для каждой формации — любовь будет разной внутри каждого класса и сословия, и ей придется классовые барьеры преодолевать (а любовью она становится лишь поскольку это на деле удается).
Любовь не бывает беспредметной — и это мы выражаем схемой
Но само понятие предмета любви (любимого человека) подвержено историческим изменениям и культурным вариациям. Первоначально — всего лишь биологическое тело, возможность удовлетворить половую потребность (поскольку она уже стала человеческой потребностью). Собственно любовь начинается там, где человека уже не устраивает физиология сама по себе — ему важно воспринимать это как часть системы общественного производства, уловить общезначимость по виду животных действий. То же самое можно сказать и по поводу других физиологических надобностей: человек уже не просто ест, спит или еще что-нибудь — он делает это в пределах общественно дозволенного и культурно установленными способами. За вещами всегда стоят люди — это синкретическая предпосылка последующей универсализации любви, и в частности ее вывода из сферы пола. В ходе исторического развития растет удельный вес неорганического тела человека, его включенности (прямо или косвенно) в тысячи разных производств — когда орудия труда становятся продолжение органики, расширяют ее функционал и перестраивают работу организма для эффективного управления этими внешними органами; прежде всего это затрагивает психику и строение мозга — но развиваются и прочие части тела, поскольку им нужно обеспечить мышечную координацию нового типа и соответствующее перенаправление энергетических потоков. Поэтому даже биологическое тело предмета любви ко времени становления первых цивилизаций уже не воспринимается как природная вещь — это общественный продукт, предназначенный для удовлетворения общественных потребностей. Влюбляются не в потенциальный секс, а в нечто хорошо сделанное; прекрасное в любимом — это совершенное выражение культурной функции (какие бы природные формы она ни задействовала).
В классовом обществе, конечно же, и привлекательность носит классовый характер. Во многих случаях внешний облик партнера вообще не имеет значения: важен только социальный статус (класс, имущественное положение, культурные связи, род занятий). Точно так же, влияние любви на личность любящего выражается в терминах соответствия принятым классовым нормам: например, буржуа может искренне любить жену, поскольку она делает его в глазах общества (а значит, и в собственных глазах) порядочным семьянином. Это не его моральное уродство — это уродство буржуазной морали. Тот же пример с другим знаком: в мужской компании не принято обнаруживать излишней привязанности к супруге — и (в зависимости от прочих факторов) возможны разные варианты деформации личности: открытый конфликт интересов ("несовместимость" дружбы и любви) — либо напускной конформизм (расщепление поведения на внутреннее и внешнее), — либо слом, подчинение нормам группы и превращение любви в антилюбовь, ненависть к тому, что всего дороже (отсюда резкий внутренний конфликт, вплоть до распада личности, одичания, или психической болезни). Разумеется, все это в миллионах оттенков и нюансов. Разумеется, все это в миллионах оттенков и нюансов.
Цивилизованная любовь — это любовь к вещам. Человек не умеет разглядеть за фетишем другого человека, и поэтому его личностное развитие возможно лишь косвенным образом, за счет скрытой за вещами субъектности. Поскольку же вещи воспринимаются как продукт деятельности, они всегда для чего-то предназначены; поэтому любят не просто так — а за что-то; поэтому и тот, кого любят, боится не соответствовать этой утилитарности — и не может просто оставаться собой (хотя именно этим он интересен другому). По сути, все тот же поверхностный интерес к телу — но теперь уже неорганическому; разнообразие этих небиологических форм субъектности не дает ощутить их внутреннее единство, воспринимать как индивидуальность. И тогда, по типу замещающего продукта, любовь расщепляется на внешне далекие друг от друга варианты (половая любовь, дружба, эстетство, стяжательство, патриотизм, гуманность...), среди которых возможна количественная градация: любить слойки с шоколадом — это одно, альтруизм — совсем другое, а любовь к богу — вообще третье. В большинстве языков даже названия у таких любовей разные. Как правило, господствующий класс разводит "благородную любовь" и "пошлые страсти", лишний раз подчеркивая общественное неравенство; тем не менее, приходится идеологически оправдывать непосредственно данное общественное единство — отсюда подчеркивание воплощенного в каждом абстрактного "божественного начала", которое на практике отождествляется с одной из форм классовой любви.
Любовь — опосредование духовного развития субъекта другим субъектом. Мы можем не отдавать себе в этом отчета — но что бы мы ни подставляли на его место, приходится выискивать кого-то, чтобы "оправдать" себя в собственных глазах. Если повезет — найдется достойный партнер, и завертится спираль взаимного одухотворения. Но чаще символом любви становится случайно встреченный, а чувство неполноты заставляет искать других встреч (хотя бы воображаемых), разбавлять одну любовь другой. Бывает и так, что никто из знакомых не в состоянии сравниться с идеалом; остается либо любить себя — либо человечество в целом (в надежде, что в этом абстрактном субъекте воплощены какие-то черты настоящей любви). Такие формы любви вполне возможны — но только на более высоком уровне, как снятие любви индивидуальной; если же перескочить необходимый этап — они остаются суррогатами: человек воспринимает себя и человечество как вещи — представляющие духовность, но не ставшие ее носителями. Если повезет — найдется достойный партнер, и завертится спираль взаимного одухотворения. Но чаще символом любви становится случайно встреченный, а чувство неполноты заставляет искать других встреч (хотя бы воображаемых), разбавлять одну любовь другой. Бывает и так, что никто из знакомых не в состоянии сравниться с идеалом; остается либо любить себя — либо человечество в целом (в надежде, что в этом абстрактном субъекте воплощены какие-то черты настоящей любви). Такие формы любви вполне возможны — но только на более высоком уровне, как снятие любви индивидуальной; если же перескочить необходимый этап — они остаются суррогатами: человек воспринимает себя и человечество как вещи — представляющие духовность, но не ставшие ее носителями.
На следующих уровнях общественного развития складываются прототипы бесклассовой любви: человек приобретает умение смотреть на другого не глазами общества (коллективного субъекта), а своими глазами, исходя из собственных представлений о духовности и путях ее развития. Такая индивидуализация выхватывает из всей совокупности общественных отношений (составляющих сущность человека) именно то, что связывает любящего с любимым, — и в каждой из деятельностей важен уже не ее продукт, а способ действия, проблески субъектности. Мы любим не то, что другой делает (то же самое делают и другие), — а то, как он это делает (и пытаемся усмотреть духовное родство). Парадоксальным образом, материальная оболочка субъекта приобретает здесь повышенное значение: в каждой вещи мы видим след вот этого конкретного человека, делаем вещь его частью, — и тем самым как раз и возникает уникальное единство вещей, составляющих неорганическое тело человека. Любящий лепит любимого не по своему образу и подобию, а по своему идеалу (одна из проекций насущных тенденций исторического развития), — но оживающее творение точно так же "высекает" из творца (как природного материала!) его истинный образ, выпукло подсвечивает черты идеала в нем, и в итоге любовники становятся одним телом, и что есть в одном — есть и в другом. Это никоим образом не вульгарное тождество — и тела двух субъектов (поскольку они остаются различными, и потому интересными друг для друга личностями) составлены из разного материала; физиологические отправления каждого организма — его собственный метаболизм, но в любви эти природные движения не безразличны партнеру: они напрямую связаны с его собственным благополучием — и влияют на динамику его органов. Такая взаимосвязь со всей откровенностью обнаруживается в половом акте — поэтому представления о любви вообще вырастают у людей из опыта половой любви, и у многих так и остаются на уровне этой непосредственной данности, застывают в первобытных формах. Другая крайность — попытка полностью вытеснить биологическую вульгарность из личностных связей, как во французской "изящной" словесности (préciosité). Соблюсти равновесие в намеренно неравновесном классовом мире — дело непростое; это, как правило, связано с преодолением классовой ограниченности и становится духовным вызовом исторически сложившейся культуре. это, как правило, связано с преодолением классовой ограниченности и становится духовным вызовом исторически сложившейся культуре.
Универсальность человеческой (разумной) деятельности требует становления столь же универсальной индивидуальности у любящего и любимого. Неорганическое тело каждого таким образом расширяется до размеров обозримой Вселенной — и каждый виртуально участвует во всем. Однако эта формальная тождественность не означает отказа от уникальности каждого — и даже наоборот, является ее необходимой предпосылкой. Чем обширнее иерархия, тем больше возможностей ее по-разному развернуть — и разнообразие личности в гармонично развивающемся обществе совершенно неисчерпаемо. Но это означает и бесконечно разнообразные связи индивидуальностей — проявления любви. Здесь переплетаются противоположные направления духовного развития: каждое сочетание одного с другим становится подвижным и многоликим, и эту любовь невозможно исчерпать, невозможно ею пресытиться; с другой стороны, никто не может замкнуться в одной любви, противопоставив ее всему остальному, — каждый связан со всеми, но очень по-разному, — из хаоса форм классовой любви вырастает единство бесконечного (и постоянно расширяющегося) круга индивидуальных связей, включая все возможные опосредования. Может показаться, что человека просто не хватит на все, что индивидуальный опыт неизбежно окажется ограниченным. Но смешайте литр одного газа с литром другого — и смесь прекрасно разместится в том же объеме; точно так же, электромагнитное поле и гравитация запросто уживаются в одном и том же месте: меняется плотность заполнения (плотность "энергии") — а по достижении теоретического предела происходит перестройка всей системы взаимодействий так, чтобы стало возможным еще большее уплотнение. Человек будущего вообще не соотносится с пространственными и временными рамками — его существование распространяется на все, что ему потребуется.
Ясно, что исторические различия в понимании субъекта любви накладывают отпечаток на строение личности: в триаде A → B → C интерпретация отдельных компонент зависит от культурных условий и меняется от одной эпохи к другой. Так, античный влюбленный всегда имеет в виду конкретное биологическое тело, общественные связи которого лишь составляют необходимый антураж; куртуазная любовь абстрагируется от телесности — и тело лишь представляет нечто другой природы, становится условным знаком (как бы меняя местами телесное и духовное); наконец, новое время постепенно возвращается к чувственности — но уже значительно расширенной и обогащенной собственно духовным опытом, что порождает тончайшую игру материи и духа в каждом конкретном чувстве.
Аналогично, представления о самоценности любимого развиваются от источника удовольствий (или выгоды), через осознание человеческой духовности (божественности), к сознанию безусловной необходимости любви, к переходу от внешних отношений к интимности, к духовной близости и невозможности существовать без другого.
Наконец, рождение коллективного субъекта в любви для античного человека оставалось мифом — любовники продолжали общественно существовать сами по себе, как разные субъекты (за редчайшими исключениями). Средневековье уже допускало духовное родство — которому не нужны никакие материализации. Зарождение капитализма предлагает букет форм коллективности, когда рыночные игроки лишь формально представлены отдельными людьми, а бизнес целиком основан на взаимоотношениях "юридических лиц". Это создает предпосылки для деятельного единства личностей; однако рынок противоположен любви — и она вынуждена прятаться под маской семейности и прочих контрактных отношений.
Уничтожение цивилизации и построение бесклассового общества предполагает снятие любых межличностных барьеров и свободу творческого труда. В этих условиях влюбленность совпадает с творческим порывом, а любимый человек становится принципом организации деятельности; единство того и другого позволяет менять мир таким образом, как если бы это сделал тот, кого мы любим, независимо от степени материального участия. Тем самым снимается и само различение сторон субъекта — треугольник стягивается в точку. Однако это уже не первоначальный синкретизм, полная неразличимость; речь, скорее, о виртуальности движения — которое не наблюдаемо извне, но может проявляться в характерной организации и динамике деятельности, подобно тому, как строение атома влияет на спектры и химические реакции.
Развитие каждой любви от синкретизма к аналитичности и синтезу также принимает формы, типичные для исторической эпохи. Можно заметить, что в античной любви преобладает синкретизм, а для феодальной формации характерно сопоставление противоположных полюсов. Это не значит, что синтетический уровень достижим только при капитализме — но античный синтез, как правило, представлен одной из синкретических форм, а средневековье навязывает сколь угодно развитому духовному движению форму разделенности. Так любовь становится отражением общественного устройства; но вместе с культурными ограничениями в любви отражаются и перспективы развития: люди ведут себя по моделям будущего — и готовят его. Это не значит, что синтетический уровень достижим только при капитализме — но античный синтез, как правило, представлен одной из синкретических форм, а средневековье навязывает сколь угодно развитому духовному движению форму разделенности. Так любовь становится отражением общественного устройства; но вместе с культурными ограничениями в любви отражаются и перспективы развития: люди ведут себя по моделям будущего — и готовят его.
В любом случае, ни одна любовь не рождается мгновенно, сразу во всей красе — любовь надо прожить, как жизнь, вырасти в ней и перерасти ее. Будет это судьбой с первого взгляда или только смутным предчувствием, которому годами вызревать в судьбу, — не столь существенно; первоначальная близость — еще не родство душ, а только ее предпосылка, строительный материал, вершина иерархии, из которой предстоит развернуть нечто поистине универсальное, без чего ни одна минута не будет полна. Способность любить и быть любимыми надо в себе воспитать — развить и то, и другое, воплотить в реальные поступки, и только тогда выяснится, насколько мы разные — и потому не можем друг без друга.
Другая сторона того же самого — воспитание любви. Разумно устроенное общество создает условия социализации, максимально благоприятствующие поиску любви и ее свободному развертыванию. Более того, ребенок рождается в любви — становится ее воплощением; по мере взросления он создает одну из возможных индивидуализаций, оставаясь равным любви вообще как одной из сторон универсальности субъекта. Классовое общество не позволяет выстроить такое развитие личности в полном объеме — однако у всех народов, в каждую эпоху, возникали всевозможные "гуманистические" идеи, подкрепленные практикой реализации этих утопий в узком кругу. Узость этой практики обуславливала заведомую предвзятость в оценке достигнутого; как только частные случаи пытаются перенести на общество в целом — скрытые ограничения всплывают на вершину иерархии, и передовая педагогическая система превращается в вульгарную пародию. Тем не менее, накопление социального опыта не проходит бесследно: чисто внешне это выглядит как "смягчение нравов" — но куда важнее рост культуры любви, развитие способности любить и быть любимым.
До сих пор мы обсуждали схему саморазвития (духовного роста) субъекта в цикле S ⇒ S' ⇒ S, которая в этом контексте, применительно к внутреннему строению субъекта свертывается в S → S ("что мне дает моя любовь"), а развернуто:
Формально, образ любимого — в самой сердцевине души влюбленного; психологически, именно им определяется переход от опосредованного любовью восприятия мира к действию не от своего имени, а по воле любви. Однако цикличность воспроизводства порождает, наряду с этим, наиболее очевидным, и другие контексты, которые тоже развертываются во характерное внутреннее движение и позволяют присмотреться к деталям межсубъектных отношений (духовных связей). Так, обращение S' ⇒ S ⇒ S свертывается в контекст S' → S, а обращение S ⇒ S ⇒ S' дает контекст S → S'; соответствующие внутренние иерархии условно представимы линейными схемами
S' → (B → C → A) → S
S → (C → A → B) → S'
| |
Такие обращения исходной иерархии предполагают снятое внешнее опосредование (синтез в субъекте другого уровня); следовательно, эти структуры характеризуют не единичного субъекта в любви, а именно межсубъектность, строение единства. Обе схемы представляют собой лишь другие развертывания (обращения) все той же тетрады Обе схемы представляют собой лишь другие развертывания (обращения) все той же тетрады
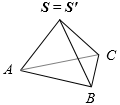
Однако здесь, разумеется, те же буквы соотносятся с другими сторонами любви; об их "происхождении" от каких-то слов в новых контекстах надо забыть — и честно выяснять категориальное наполнение.
Первая схема говорит о том, как любовь пересоздает влюбленного, пропитывает его любимым. Внешним образом — это очарование, стремление все в мире мерить единственной мерой, во всем видеть образ любимого человека, выискивать в каждом событии то, что связано с ним (идет от него). Противоположность этому — превращение любви в жизненный идеал (или призвание), высший критерий разумности, источник смыслов (в китайской нерелигиозной философии аналогично трактуют категорию дэ). Единство противоположностей, их переход друг в друга, — порождает все богатство возможных проявлений индивидуальности, как бы пишет его биографию — любовь становится судьбой (аналог китайского дао). Конечно, слова можно подобрать и другие; важна суть дела, а не речевое оформление.
Второй вариант — говорит о том, как любящий проявляет свою любовь, перестраивает мир так, чтобы он соответствовал идеалу, — и тем самым меняет (и возвышает) и предмет любви. Непосредственным образом — это его долг, его место в иерархии общества в целом, культурная функция. Мы воспринимаем труд во имя любви как первейшую обязанность — и если наша любовь никак не влияет на мир, то ее вовсе нет! Но нам не тяжел этот труд, потому что его другая сторона — страсть. Что бы мы ни делали — это форма стремления, самоотдача, порыв. Соединяются противоположности в том, что можно было бы назвать заботой (латинское caritas, английское care). Мир и предмет любви здесь одно и то же, и невозможно заботиться об одном, не принимая участия и в другом.
Христианствующие концепции любви обычно различают и противопоставляют друг другу страсть и заботу как низменное и высшее, как идущее от плоти — или от духа. При этом упускают из виду основание того и другого — созидательную, творческую деятельность, труд. И приходится выводить искусственно оторванные друг от друга стороны действительного человека из чего-то нечеловеческого: плоть от природы, дух от бога... Но и то, и другое — продукт деятельности; любовь соединяет одно с другим универсальным образом — а это и есть определение разума.
Чисто внешне (но не случайно!) эти три взгляда на любовь соотносятся с уровнями синтетической рефлексии: основное обращение показывает логику любви; первое обращение отсылает нас к эстетике; альтернативное обращение — раскрывает этическое наполнение. Тем самым любовь способна направлять человеческое поведение во всех его аспектах, заполнять любые грани. Это другая сторона универсальности (и разумности) любви. Тем самым любовь способна направлять человеческое поведение во всех его аспектах, заполнять любые грани. Это другая сторона универсальности (и разумности) любви.
Стандартные методы диатетической логики позволяют продолжить развертывание иерархических структур в каждом из обозначенных здесь контекстов. Например, поскольку (внутренняя) категория B опосредует связь категорий A и C, внутри нее (на нижележащем уровне) выделяются противоположные стороны: B(A) и B(C). Для краткости — и чтобы подчеркнуть, что это другой уровень иерархии, — обозначим эти новые категории буквами другого (греческого) алфавита (например, α и γ соответственно); связь между ними на том же уровне представлена некоторой категорией ε:
Как обычно, останавливаемся, переводим дух — и соображаем, чему это по жизни соответствует. По смыслу — то, чем предмет любви для нас становится в нашей внутренней жизни, как он "настраивает" наш дух, соединяет единичное с всеобщим. Прежде всего (α), любовь позволяет нам обратить внимание на собственную духовность, почувствовать себя человеком, способным встать вровень с миром. Именно любовь делает человека самим собой, пробуждает его самосознание — а значит, и тягу к самосовершенствованию, которое тесно связано с представлением о любимом как воплощении того, чем должен быть настоящий человек, к чему надо стремиться, чему следует подражать (компонента ε). То есть, сначала мы обнаруживаем, что мы очень похожи на свою любовь (поначалу лишь проекция нас самих на кого-то другого) — а потом обращаем внимание на существенные различия; если их нет — куда расти? Наконец, синтез того и другого выявляет нашу общность как взаимную дополнительность в составе целого, возможность быть и собой, и другим (γ); за счет этого мы увереннее идем по жизни — ибо нас всегда готов "подстраховать" тот, кому мы доверяем как (или даже больше чем) себе. Вероятно, этому можно найти подходящие названия (в разных языках разные) — и вместо букв употреблять слова, помня, что всякая терминология условна, и термины осмысленны лишь в рамках определенной деятельности.
Точно так же, возникают обращения триады:
((γ → α → ε) → B → C)
(A → B → (ε → γ → α))
| |
Можно было бы условно обозначить (γαε) как иерархию влечения, а (εγα) как иерархию нежности; исходную структуру (αεγ) тогда логично понимать как уровни вовлеченности (противоположность влечению), так что сами эти обращения составляют полную триаду — и одинаково важны для духовной целостности и полноты. Собирая вместе все обращения, получаем вполне традиционную тетраду общественных форм любви:
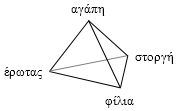
По счастливому совпадению, греческие термины достаточно точно передают возникающие в этом формализме идеи. В том обращении, которое представлено на рисунке (оно соответствует традиционному словарному толкованию), нетрудно усмотреть, например, обычную для христианства противоположность земной и небесной любви — однако у нас они отнюдь не противопоставлены друг другу! В других обращениях тетрады возникают ассоциации с другими традициями; это наводит на мысль о принципиальной правильности избранного здесь подхода — что, конечно, не делает его единственно правильным.
Понятно, что точно так же можно развертывать иерархии в других контекстах — это полезные и удобные инструменты для выработки сознательного (разумного) отношения к любви. Но этим мы будем заниматься по лишь мере необходимости, при оценки явлений реальной жизни и плодов рефлексии. Пока достаточно принципиальной позиции и базовых навыков.
Развитие любви в индивидуальном общении или в качестве одной из сторон культуры порождает разнообразнейшие иерархические структуры; их компоненты в разных исторических условиях имеют разный смысл. Об этом надо помнить, исследуя известные примеры любви (будь то реальные истории — или художественные модели, мысленный опыт, практика философствования). Нельзя безоговорочно переносить чувства и поступки наших современников в глубокую древность, и тем более в будущее. Однако в силу единства строения появляется шанс по-настоящему оценить своеобразие — и почерпнуть из любой эпохи полезное для себя.
Природное время — безразлично к человеку и его интересам. Оно вовсе не "течет" само по себе — как всеобщая шкала, мировой порядок. Неживое вообще не отличает одного момента от другого — и время оказывается сродни пространству (хотя сингулярности иногда создают видимость развития). Живое — существует от и до: время впаяно в органику раз и навсегда, отмеряно без вариантов. Только разум умеет создавать порядок, следуя своим целям; как только у нас появляется логическая основа, категориальная схема, мы можем выделить в хронологии то, что с таким видением мира соотносится — и выстроить не историю вообще (таковой может и не быть), а историю чего-то конкретного, — и тогда в этой истории, соответственно строению иерархии, различимы отдельные исторические линии, вплоть до переплетения индивидуальных историй любви. Нет логики — остается хаос неизвестно чего, и любое название будет случайностью или произволом. Есть логика — можно стадии развития понимать как типы, когда развитие историческое становится личной историей.
Любовь — это возвращение к себе через другого: постижение себя, умение оставаться собой, стремление творить себя. Как будет выглядеть любовь — зависит от уровня развития культуры, от набора форм духовности, которые она может предоставить влюбленным. В классовом обществе не всем все доступно, и потому любовь зачастую принимает карикатурные формы, и может в каких-то случаях выглядеть враждой, конкуренцией, взаимным отторжением — или просто отчужденностью. Одно из таких извращений — любовь к вещам, к деятельности самой по себе, которая, вроде бы, не нуждается ни в чьем присутствии; если по характеру деятельности какое-то общение все же предполагается, другой человек воспринимается не как личность, а как партнер, реквизит, инвентарь. На практике, многие совместные деятельности со временем становятся чисто рефлексивными; например, игра в шахматы превращается в разбор партий наедине с собой — а сегодня можно играть и с компьютером. Аналогично — пасьянсы, компьютерные игры, рукоделие, чтение книг — или сериалы. Может такое стать духовным развитием, любовью?
Ответ содержится в вопросе: если деятельность духовно обогащает, позволяет строить иерархию личности, — это один из ликов любви, даже там, где трудно обнаружить ее предмет, другого субъекта. Если же это застой, оскотинивание, — тогда речь не о любви, а о пристрастии, сугубо физиологической потребности (хотя бы и в отношении неорганического тела). Отличить одно от другого, как правило, удается по характеру интереса: любовь свободна, ей не столь важно, как и когда удается пообщаться с любимым, — а иногда достаточно одной лишь надежды, или только принципиальной возможности (мне хорошо от того, что ты есть на свете); напротив, пристрастие требует подкрепления, заставляет искать всякой возможности. Но как только начинают добиваться чего-то единичного — это уже не духовность, а корысть, с любовью совершенно не совместимая. В частности, убивает любовь превращение в пункт распорядка дня (или календарную дату). Или формальность ее проявлений: не потому, что каждый раз одно и то же (это может быть очень приятно и возвышенно), — а потому что заранее запланировано и предполагает определенную реакцию.
В любви интересы подвижны, они не подчиняют себе личность, а лишь подсказывают, на что посмотреть: нельзя растворяться в любви без остатка, надо примерять ее то к одному, то к другому — использовать любую возможность развития. Всякий интерес — на время; но мы ни от чего не отказываемся, и однажды пережитое — остается навсегда. Однако суть разума — универсальность, необходимость вобрать мир целиком. Не обязательно (и даже вредно) бросаться из крайности в крайность, менять все: можно заниматься чем-то одним — но так, что оно понемногу вырастает до размеров Вселенной.
Любовь активна, она заставляет как-то проявлять себя в мире, изменять его ради любви. Но сам по себе этот признак обманчив: добиваться кого-то, делать что-либо ради привлечения внимания или чтобы доставить приятное, — не любовь; в любви достаточно быть вместе (не обязательно рядом), смотреть на все не просто глазами другого, а с точки зрения духовного единства, когда исчезает само разделение любящего и любимого. А это означает возобновление и упрочение духовных связей: я подумал о чем-то своем — но это может быть окрашено внутренним присутствием другого и приобрести его черты; значит, мир уже изменился — потому что мир не только вокруг нас, но и в нас самих!
Не бывает памяти о любви: любовь только в настоящем. То, что постоянно присутствует во всем — уже не память, это вполне живое (хотя бы и виртуальное) присутствие. То что определяет наше будущее, выстраивает судьбу, — вовсе не память, а, скорее, мечта. В любви нет ничего завершенного — она и есть развитие, рост, творчество. Поэтому, например, глупо испытывать нечто вроде благодарности (или, в отрицательном смысле, отвержения): еще ничего нет, все только в процессе свершения. Только в классовом обществе процесс могут оборвать, заморозить; но стоит остановить мгновение — любовь в него уже не помещается и тут же находит другое пристанище.
Любовь не бывает чужой — всегда единственная и неповторимая. Можно смотреть на других, замечать любовь, учиться любви — но это не их любовь, а то, как наша любовь выражается в них.
Любовь не сама по себе. Она в нас. Она всегда — сторона чего-то. Значит, это "что-то" вдруг проявляет себя как сторона любви. Тоже не само по себе. Там, где есть свобода, — труд с любовью, и любовь как труд. Где не хватает свободы — любовь в каждом теле может жить лишь как прототип любви; но это означает, что ей придется искать другие тела, склеивать себя по кусочкам из разных любовей.
И встает закономерный вопрос: каким же образом возможно любить кого-то конкретно, когда ни в кого конкретно любовь воплотиться не может? Кто у нас — предмет любви? Любимое существо — или только его сущность? Получается, что мы любим лишь мечту, абстрактный тип, который реально не существует, — более того, он как раз и создается в любви! Так почему не взять по кусочку от каждого — и любить сразу всех? Пропагандисты эмпирионатурализма тут как тут: реабилитируют групповой секс. Но, пардон, беспорядочные сношения никого еще не объединяли — и даже наоборот: всякая общность разваливается. Конечно, если сложились отношения с несколькими партнерами, которые на самом деле связаны в одно целое в контексте этой конкретной любви, — это целое становится коллективным субъектом, и ничего против такой "групповой" любви сказать нельзя. По жизни нечто подобное порой случается. Причем взаимоотношения вовсе не обязаны замыкаться на чем-то одном: они могут развиваться совершенно по-разному с каждым представителем коллективного предмета любви — важно только, чтобы внутри группы сохранялось единство, и связи с группой не распадались на связи с ее отдельными представителями. Чем разнообразнее такие отношения — тем интереснее, тем полнее любовь. Например, мужчина неравнодушен к двум (очень близким) подругам — и это не мешает им оставаться подругами, независимо от того, состоит ли он в половой связи с обеими, только с одной из них, или вообще ни с кем. В этом случае секс с одной — автоматически становится и сексом с другой (не физически, а духовно!); и наоборот, чисто дружеская привязанность распространяется на группу в целом. Несколько вульгарный пример — приближен к уровню современной буржуазной культуры; на самом же деле, возможны куда более нетривиальные сближения. В классовом обществе какие-то из связей могут оказаться отрицательными: например, жена и любовница ненавидят друг друга — но эта ненависть связывает их крепче крепкого, делает единым существом. В смягченной форме: конфликт любви и дружбы, ревность любовницы к другу, а друга — к любовнице. Ситуация совершенно типичная. В чем соль? Да в том, что все эти внешние формы (семья, приятельство, секс) — совершенно случайны по отношению к любви, а в основе — объективная необходимость развития в культуре особой (множественной) связи индивидуальностей, за счет которой развивается духовность каждого из участников — а с другой стороны, утверждаются новые формы субъективности как таковой, распространяющие понятия индивидуальности и личности на коллективного субъекта. Для чего это нужно? А для того, чтобы в конечном итоге на самом деле (а не только в абстракции) образовалась общность человечества в целом — возможно, с примесью кого-то извне. И тогда — можно будет говорить о стирании границ между личностью и обществом, о любви каждого к каждому как другой грани любви всех ко всем. Это сильно отличается от буржуазной проповеди альтруизма и "социальной ответственности". Говорить о любви человека к человечеству, или о любви человечества к человеку, возможно лишь там, где человек противостоит человечеству, где он мыслит себя именно отдельным существом, — а коллективное самосознание подразумевает подчиненность коллективу (неважно, насколько добровольную). Но именно это закрепощение и призвана устранить настоящая, свободная любовь.
Когда мы говорим о развитии духовности субъекта через другого субъекта, речь не идет о частичных реализациях духа — надо брать все возможные воплощения. На практике эта иерархия будет развертываться в зависимости от обстоятельств, превращаясь то в половую любовь, то в мечты о ней; то контакт с инопланетянами — то непредставимое пока родство путей развития духа в разных галактиках (или параллельных вселенных). Ничто не мешает духовной связи через любые пространства и времена. Неважно, сколько веков отделяют меня от моей любви — она уже во мне. Пока при развертывании сохраняется целостность — в каждом таком обращении представлена любовь целиком. Слишком жесткие связи — разрушают структуру, ограничивают ее лишь верхними уровнями, поверхностными проявлениями. Преувеличенность внешних проявлений — превращает любовь в ее противоположность. Тем не менее, уже на ближайших уровнях мы видим стремление к практическому действию для приведения мира в соответствие с идеалом, и любовь становится способом воспроизводства идеала, эффективно залечивая нанесенные классовыми разборками раны, склеивая разбитое, отращивая ампутированные органы. Восстанавливается и любящий, и предмет любви, — и возможно снятие различия, взаимопроникновение. Тогда в своем идеале мы увидим себя. И так до тех пор, пока каждый не научится чувствовать себя обществом в целом, а целое сохранится в каждой из частей. Да, это трудно — и впереди большая работа. Но почему мы должны равняться на низшее, примитивное, неразвитое? Идеал любви кажется недостижимым — это как раз и заставляет к нему стремиться, и недостижимость отступает. Практическое действие делает невозможное возможным, упаковывает бесконечность в конечное. Давайте трудиться, любить. Не ради чего-то — а просто потому, что мы разумны и по-другому нас вообще нет.
Примечания
01
От английских слов amorous, beloved, concerned; английский язык взят только потому, что первые буквы слов разные — а во многих языках они частично или полностью совпадают, подобно тому, как по-русски получается своего рода принцип трех Л — или, по-французски, принцип трех A: amoureux → aimé → amant.

02
Пример из современной жизни: семья сотрудника солидной фирмы едва сводит концы с концами; когда он хочет что-нибудь унести домой с корпоратива (чтобы порадовать жену вкусненьким), его останавливают и унизительно разъясняют, что выносить из офиса ничего нельзя. Аналогично в советской действительности: в те времена искусственно создавали дефицит книг — и вот, ребенок из бедной семьи пытается утащить с книжной выставки книгу, которая ему очень понравилась...

03
Поэтому так популярны всяческие кружки по интересам: любители пива собираются в одной корпорации, любители музыки в другой... Невозможно просто так любить пиво или музыку — за этим всегда стоит идеал "любителя".

04
Если писатель знает (и даже иногда по жизни употребляет) "альтернативную" лексику — он вовсе не обязан материться в своих произведениях (за исключением случаев, когда это безальтернативно в художественном плане). Точно так же, нормальный драматург (или сценарист) не будет воплощать свое знание об убийствах в реальном умерщвлении актеров на сцене или перед камерой.

05
Куртуазная любовь исходит из разделенности любовников, невозможности соединения; если барьеров по жизни нет — их надо выдумать!

06
Если нет особого интереса к логической стороне вопроса — не стоит долго задерживаться на том, как одно из другого получается. В конечном итоге важно что-то узнать о любви, а не о ее формальных представлениях, абстрактных образах.

07
Не путать с уровнями аналитической рефлексии: наука, искусство, философия.

08
Еще раз: сами по себе буквы ничего не значат, и только в определенном контексте становятся чем-то наполненными. Наш выбор ориентируется на традиции философской терминологии — но каждый вправе работать с тем, что лично ему удобнее и навевает полезные ассоциации.

|